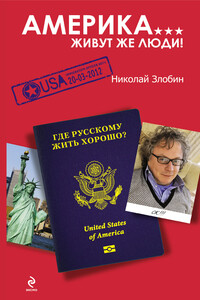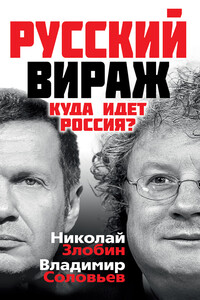Эта история произвела такое впечатление на моего знакомого политика, что и через два десятка лет он рассказывал мне ее с мельчайшими деталями, как будто все случилось вчера. Он был потрясен тем, с каким уважением американцы, в том числе обладавшие всей полнотой власти, отнеслись к частной собственности. Я передаю здесь эту историю не только потому, что она является хорошей иллюстрацией американской жизни. Такой неожиданный американский «урок» оказал большое влияние на систему ценностей российского политика и даже его дальнейшие политические инициативы.
Американцы доверчивы, и на бытовом уровне их легко ввести в заблуждение. Действительно, подобную табличку с надписью можно купить в любом хозяйственном магазине, а то и в ближайшей аптеке. Но, мне кажется, связанные с такой покупкой неизбежные махинации и обманы (пусть и мелкие) вынудят американца излишне напрягаться, то есть усложнять свою жизнь. А стоит ли, если гораздо проще действовать «по инструкции»? Кроме того, еще в детстве каждый американец впитал церковные проповеди и родительские поучения о том, что обманывать нехорошо. Конечно, позже неизбежно придет определенный — и немалый — цинизм взрослой жизни. Состоится знакомство с политикой, манипулированием и интригами. Однако общие установки менталитета неизменны: будучи пойманным на лжи, американец рискует потерять доверие сограждан навсегда.
Когда я приехал в Соединенные Штаты в конце 1980-х годов, английского языка я практически не знал. В Московском университете я изучал французский. Но, к моему большому удивлению, никакой особой проблемы незнание языка для меня не создавало. Американцы фантастически толерантны к другим языкам и к плохому английскому. И даже если вы едва говорите по-английски, они будут внимательно слушать и пытаться понять хоть что-то. А если не поймут, то винить в этом будут, как правило, себя, а не ваш плохой язык. Расскажу один курьезный случай. Через три месяца после приезда в Вашингтон я должен был прочитать в одном из больших американских учреждений серьезную лекцию. Организаторы были уверены, что я свободно говорю по-английски. Я их не разубеждал, потому что делать это было уже слишком поздно.
Поскольку за пару месяцев английский не выучишь, я с тоской готовился к двухчасовому позору. Мой ассистент, который, к счастью, говорил на двух языках, помогал мне готовить лекцию, но он не мог прочитать ее за меня и тем более ответить на вопросы. Я хорошо помню, что вышел на трибуну с кучей каких-то бумажек, где русские слова были перемешаны с английскими, указана транскрипция некоторых слов, которых я не знал в принципе, проставлены ударения и т. д. Читал я лекцию запинаясь, сам не очень понимая, на каком языке говорю. Временами у меня и вовсе прорывались русские слова. В общем, кто плохо знает иностранный язык, тот поймет ужас моего положения. В течение первых 15 минут своего спича я от стыда боялся поднять глаза и посмотреть на аудиторию. А когда наконец все же взглянул на слушателей, с еще большим ужасом увидел, что все они внимательно меня слушают и даже что-то записывают. Для меня до сих пор остается загадкой, что они слышали и что записывали. Я бы сам за собой не смог записать собственную лекцию. Однако мои слушатели стремились получить от меня новую информацию и очень старались понять мой английский. Я же, в свою очередь, не понимал их вопросов и искал взглядом помощника, который всячески, в том числе жестами и мимикой, пытался мне объяснить, о чем идет речь. Во многих других странах меня наверняка быстро согнали бы с трибуны, да еще и освистали.
После этого случая я окончательно уверовал, что американцы относятся к плохому произношению и к другим языкам толерантно. И в этом нет ничего удивительного, потому что в США как минимум четверть страны говорит с акцентом. Кроме того, существуют региональные диалекты: на Восточном побережье, в центре Америки, на юге и на западе говорят по-разному. А уж как говорит афроамериканское меньшинство — это вообще отдельная история, их часто очень трудно понять. Если в таких условиях каждому предъявлять претензии по поводу знания языка, то все остановится. Первые пару лет, например, для меня большой проблемой было говорить по телефону. Ведь телефон искажает голос, ты не видишь человека, движения его губ, жесты и выражение лица. А когда нарываешься на другом конце, например, на латиноамериканца, выходца из Индии или Пакистана, который сам говорит с большим акцентом, — вообще ничего не разобрать. Поэтому я завел правило встречаться со всеми лично и разговаривать, глядя в глаза: так было гораздо проще. И все же никто никогда мне не говорил, что у меня плохой английский или что я говорю с акцентом и меня трудно понять. Впрочем, сам я это очень хорошо осознавал. В книге «Америка… Живут же люди!» я подробно описал, как осваивал английский язык со всеми его особенностями. Процесс не столько сложный, сколько смешной, стыдноватый и непредсказуемый, регулярно приводящий к комическим ситуациям и неожиданному, хотя и неверному, пониманию собеседника.