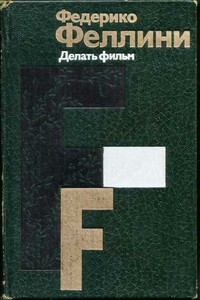— Прекрати, болван! Отпусти!
Дешевка разжимает руки, и катамаран, раза три сильно качнувшись, вновь обретает равновесие. Угощайтесь хватает весло и замахивается на Дешевку, но тот мгновенно исчезает под водой.
Море постепенно темнеет. Далекий берег угадывается лишь по цепочке светящихся точек.
Бобо с братишкой, перегнувшись через борт, вглядываются в черную морскую глубь, в которой сверкают, словно светлячки, мириады фосфоресцирующих рыбок.
Их отец любуется звездным небом. Взглянув на молчаливо сидящую рядом жену, он говорит, словно сам себе:
— Человек живет в своем городе и не замечает, что за столпотворение у него над головой! Вертятся миллионы таких шариков, как земной, и все они куда-то летят… Все, все вокруг куда-то летит… Летят Солнце, звезды, наша Земля, а значит, летим и мы… И тут говори не говори, а на самом-то деле все не так: идем мы или стоим на месте, как вот сейчас, мы все равно в то же время летим… Вот ведь, черт побери, какая штука! И как она только держится, эта махина? Возьмем, к примеру, меня: надо мне построить дом, что ж, дело нехитрое — берешь столько-то кирпичей, столько-то мешков извести… А в воздухе-то, скажи на милость, где ты положишь фундамент?! И подумать только, не какие-нибудь там игрушки, мелочь всякая… все тяжеленное, огромное… одной земли сколько… а не земля, так огонь… везде огонь, горит, пылает… пылает, черт его подери, миллионы лет, пылает себе и пылает… а мы вспыхиваем и гаснем, как спички… Миранда, тебе не холодно? Накинь что-нибудь на плечи. Хочешь мой пиджак?.. И нечего на это закрывать глаза… ну сколько мы можем еще протянуть — самое большее — десять, ну еще двадцать лет… Ты замечаешь, как быстро бежит время?..
На одной из лодок — дон Балоза с группой школьников и монахиня. Они молятся, и их приглушенные голоса сливаются в невнятное бормотание.
Одного мальчика укачало и рвет.
Вдруг раздаются звуки аккордеона. Все умолкают и прислушиваются.
Играет слепой по прозвищу Шарманщик; ему лет пятьдесят с лишним; черные очки, рыжеватые волосы, бледное, чуть перекошенное лицо.
Он все время передергивается от какого-то внутреннего тика, словно его щекочет невидимая рука. От звуков аккордеона в воздухе разливается грусть.
Угощайтесь слушает самозабвенно. Мелодия внезапно обрывается, и вновь наступает тишина.
Когда аккордеон смолкает, Угощайтесь чувствует в душе пустоту. Она начинает говорить, и эту проникновенную исповедь обращает к себе самой, к Рональду Колмену, к своим сестрам, а также и к нам:
— Да, может быть, я ошибалась: я метила слишком высоко… Но в этом я виновата лишь отчасти. Поймите меня правильно, я и не думаю задаваться… это не в моем характере… однако я сама должна признать: во мне есть что-то такое, чего нет в других девушках… например походка… ведь мне достаточно нацепить на себя любую старую тряпку, или сделать несколько шагов, или просто поднять руку, и я, сама не знаю почему, сразу произвожу впечатление, все на меня смотрят — одним словом, я не из тех, мимо кого проходят, не заметив. О встрече с такими, как я, вспоминают долго. И мне это льстит: женщине всегда приятно, когда она чувствует на себе взгляды… Взгляды — но не руки… А кто только и думает, как бы тебя облапить, того я всегда ставлю на место… Правда, и я сделала в жизни несколько ошибок не так уж много, — но иногда все же поддавалась, уступала… я ведь тоже не кусок льда. Теперь я, конечно, раскаиваюсь и поняла: красота порой доставляет тебе радость, но это с одной стороны, а с другой — она может тебя и погубить. Знаете, сколько мне лет? Я не стыжусь сказать правду. Я даже всегда немного прибавляю себе, не то что другие. Мне тридцать лет! И все же я продолжаю ждать… Да, мне хотелось бы дождаться одной из тех долгих встреч, которые длятся всю жизнь, мне хотелось бы иметь семью, детей, мужа, чтобы вечером, быть может за чашкой кофе с молоком, было с кем словом перемолвиться… А иногда — почему бы нет? — и заняться любовью, потому что без этого ведь тоже нельзя… Однако главное чувства, они куда важнее, чем физическая близость… А чувства меня просто переполняют… и я готова их все отдать… Но кому?.. Кому они нужны?..