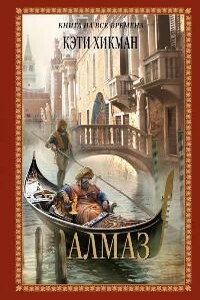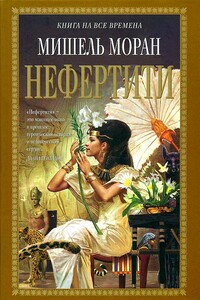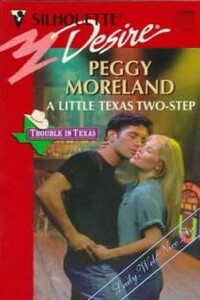1603 г.
Как много рассказов о том, что человек чувствует, когда тонет! Люди вообще создания многословные.
Говорят, эта медленная смерть похожа на погружение в сон. Жизнь проходит перед глазами, и человек попадает в пустоту или в загробный мир. Но когда кошмар заканчивается, вы узнаете, что «там» все не так, как представлялось.
Никто не говорит о том, что, когда тонешь, самое главное — звук. Не шум волн над головой, не треск палуб уходящего под воду корабля, не доносящиеся издалека голоса гребцов: «Подналяжем, ребята! Раньше покончим с этим — быстрее вернемся домой» — и даже не жуткий рев льющейся в уши воды. В памяти навечно остается собственный голос, который кричит, умоляет, плачет: «Только не это, ну пожалуйста, только не так, лучше убейте меня сразу». Голос не стихает даже в воде, и начинает казаться, что именно он лишает вас последних глотков воздуха.
Вот почему она молчит. С тех самых пор она не произнесла ни слова. Даже теперь, когда все закончилось и она попала в загробный мир.
Южное побережье Италии, 1604 г.
Деревня была поразительно бедной. Хотя женщины уже насмотрелись на вопиющую нищету этой страны.
Они добрались сюда рано утром, после долгого ночного перехода, и сразу же поняли, что ошиблись. Скопище убогих рыбацких лачуг, словно моллюски облепивших открытый всем ветрам скалистый берег, язык не поворачивался назвать деревней. Со стороны моря домишки напоминали кучи плавника, обкатанного волнами, высушенного солнцем и ветром, который попал сюда по воле случая. А присмотреться — голые бревна и известняк.
Наученные горьким опытом женщины остановились возле деревни и устало оглядели цель своего путешествия. Ни церкви, ни даже часовни, хотя придорожный каменный крест походил на ковчежец с реликвиями — там виднелась грубо нарисованная на куске жести Мадонна. На кресте висело несколько заговоренных амулетов — женских фигурок с короной на голове. Они едва слышно позвякивали на ветру. Неподалеку высились развалины когда-то, должно быть, внушительных построек. Крыши обвалились, из соломы, словно осколки костей из раны, торчали почерневшие от времени стропила. Но хаос не стер следов былой роскоши: тут каменная притолока, там резной косяк искусной работы.
Девочки-близняшки лет восьми-девяти спрыгнули с повозки, на которой приехали вместе с остальными, и, шустрые, словно капельки ртути, погнались друг за дружкой по заброшенным дворам. В ярких разноцветных платьях девчушки походили на порхающих бабочек. Следившая за детьми Мариам резким тоном приказала им вернуться.
— О чем ты только думаешь?! Почему позволяешь им бегать где попало?
Эти слова предназначались сидевшей рядом с ней матери девочек, чье бледное печальное лицо напоминало маску Пьеро.
— А какой с того вред? Пусть разомнутся, — ласково ответила она.
— Вели им возвращаться! — отрезала Мариам.
— Но мы же только приехали…
— Сама посмотри! — Мариам указала на деревянную дверь, которая болталась на одной петле.
На двери жженой известью кое-как был намалеван крест. Елена все поняла. В груди тяжело ухнуло сердце.
— Пavayiaµоv![1] Нас посмели привезти в чумную деревню?
— Это многое объясняет… — Мариам указала подбородком на заброшенное поселение.
— Но они сказали, что…
— Забудь! Уезжаем немедленно!
Мариам спрыгнула с повозки. Даже босиком она была на голову выше многих мужчин, да и шириной груди и плеч не уступала. Тяжелая конская упряжь в ее руках казалась детской игрушкой.
— Но мы в пути уже столько дней, так дальше нельзя… Дети притомились. Да и остальные выбились из сил.
Горячий ветер спутал Елене волосы, бросил в лицо песком. Она указала на пеструю группу женщин, потом на лошадь:
— И эта бедная скотинка не сможет вечно тащить нашу повозку. Животному тоже нужен отдых.
Тощая, с выпирающими ребрами кобыла стояла, почти касаясь мордой земли.
— Какое мне до этого дело! Сказано же, мы здесь не останемся!
Подав маленькому каравану сигнал к отбытию, Мариам потянула вожжи на себя, развернула повозку и направила ее прочь от деревни по поросшей кустарником песчаной дорожке между рыбацкими лачугами и морем.