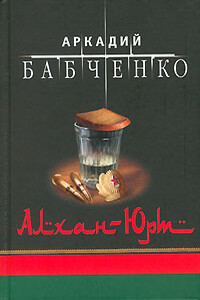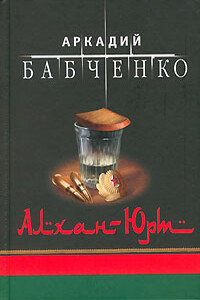Игорь досмолил свой бычок, воткнул его в землю. Его лицо стало задумчивым, в глазах проплыли нарядные платья, духи, вино и танцы… Потом он глянул на Артёма, на его драный бушлат и грязную морду, и тоже засмеялся:
– Да, бля! Поздравляю! Отпраздновал…
Поесть в этот день так и не удалось. Как только они вернулись в батальон и Артём, спрыгнув с брони, направился к своей палатке, он нос к носу столкнулся с вынырнувшим навстречу взводным. Быстро поздоровавшись и спросив про бой, взводный озадачил его по новой – ехать связистом с толстым лейтенантом-психологом.
Психолог этот раньше служил вроде как в ремроте. А может, и в РМО штаны просиживал, в общем, толку от него не было никакого, так – не пришей кобыле хвост. Но потом, когда полк отправляли в Чечню, выяснилось, что в каждом батальоне по штату должен быть свой психолог, чтобы любой солдат, у которого башня клина схватит, мог прийти и пожаловаться ему на свою психическую несовместимость с войной в частности и с армией в целом. Но настоящих психологов, понятное дело, в войсках днём с огнём не сыщешь. И лечить солдат от депрессии насобирали по батальонным закоулкам всякую шелупонь вроде толстого лейтенанта. Впрочем, к нему никто ни разу за помощью так и не обратился. Потому что единственным способом, которым психолог мог поставить заклинившую башню на место, был мощный удар в грызло. А кулаки у него – будь здоров.
Но человек он был энергичный, сидеть без дела ему было скучно, и он брался за всё подряд, неформально исполняя обязанности на должности «принеси-подай иди на хрен не мешай».
На этот раз задачу психологу нарезали следующую: добраться до Алхан-Юрта, разыскать там батальонную водовозку – АРС, попавшую в засаду и сожжённую чехами, и оттащить её в ремроту. А также узнать, что стало с водителем и сопровождавшим его солдатом, живы ли они, и если нет, то разыскать и привезти их тела.
Поехали втроём – психолог, Артём и Серёга-мотолыжник, водитель этой жестянки – МТЛБ, мотолыги.
Ехать на мотолыге было не так удобно, как на бэтэре. Хотя она намного шире и совсем плоская, но на поворотах её, гусеничную, резко дёргало, и Артём, пытаясь зацепиться за рассыпанные по броне бляшки-заклёпки, всё время чувствовал себя жирным блином на скользкой сковороде.
Опять это унылое слякотное поле, опять колея, чавканье гусениц по жиже, опять дождь. Брызги грязи опять вылетают из-под гусениц, шлёпаются на броню, попадают в лицо. А бушлат так и не просушен, и сапоги совсем сырые. Уже который месяц. И уже который месяц грязное всё. И опять холод. Этот вечный холод, как он достал, сука, хоть денёчек бы пожить в тепле, прогреть кости. И есть охота. Они жмутся, закуривая, кутаясь в воротники. Опять поворот, федеральная трасса, «Рузкие – свиньи»… Как же задолбало-то всё, как домой-то охота!
На этот раз они повернули не к элеватору, а в противоположную сторону, налево, к центру. По трассе доехали до поворота на Алхан-Юрт, свернули, прижались к домам и на тихом ходу проползли ещё метров пятьсот, до свежей, отстроенной, видимо, совсем недавно, но уже напрочь разбитой мечети. Здесь начиналась зона разрушений. Во дворах – две-три стены и посередине куча мусора. Либо просто одна стена, как человек, вывернутая взрывом наизнанку, трепещущая на ветру голыми обоями, выставляя то, что должно быть внутри, наружу.
Около мечети их остановили вэвэшники. Они кучковались в пустой коробке складского двора, прижавшись с внутренней стороны к стенам забора. Дальше дороги не было – остальную часть села, за поворотом, занимали чехи.
Засели они там плотно. Весь день напролёт в селе кипел обстрел. Разрывы сменяли друг друга один за одним, снаряды падали так же бесперерывно, как и этот непрекращающийся холодный зимний дождь. Где-то чуть дальше, ближе к реке, шла постоянная стрельба, автоматная трескотня выделялась из общей канонады.
Жизни в селе нет. Улицы пустынны, местных не видно. Дома стоят мёртвые. Только вэвэшники жмутся вдоль заборов, расползаются по канавам. Изредка, выглянув предварительно из-за угла, бегом пересекают открытое пространство.