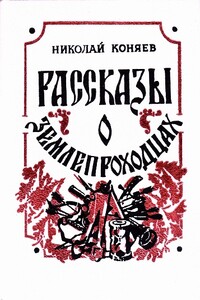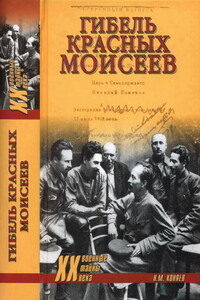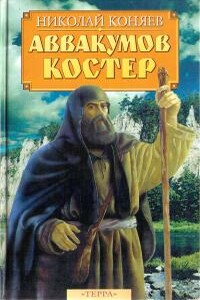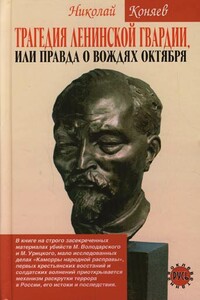Стихотворение М. Ю. Лермонтова при всей его гениальности остается в рамках романтической поэзии, и сюжет о юной красавице-казачке, которую Терек принес в дар Каспию, исчерпывает этот шедевр. А вот в поэме «Дары реки» лермонтовский сюжет лишь частность, лишь эпизод, когда «заревевшая из белой мглы» бабушка-океан «заговорила словами тяжелыми, словно льдины»:
Если бы действительно пожелала ты
Одарить свою старую бабушку,
Освежить
Мое заиндевелое ледяное горло…
Тогда
Удалыми богатырями,
Отчаянными парнями,
К силе своей в придачу
Познавшими в жизни удачу,
Брюхо свое набив,
Ко мне бы ты притекла.
Тогда
На ангелов похожими,
Божественными, пригожими
Женщинами прекрасными
С их очами большими и ясными,
Дно свое устелив,
Ко мне бы ты притекла.
Сама же поэма шире этого эпизода, она включает в себя и размышления над вечными проблемами жизни на севере, она показывает и величественное противостояние жизни, которую воплощает в себе река Лена, и смерти, олицетворяемой в поэме океанихой-бабушкой.
Жестока и беспощадна расправа:
А саму тебя
На восемь месяцев —
Под глубокий снег,
Чтобы едва сочилась,
Чтобы слезой точилась,
Чтобы не видна была
Ты для всех.
А саму тебя
На девять месяцев —
В стужу и мрак
Под ледяную пургу,
Под густую шугу.
Да будет так!
Знаменитые Ленские столбы находятся сравнительно недалеко от того места, где одно за другим предстоит создать Алексею Елисеевичу Кулаковскому едва ли не самые главные свои произведения: «Дары реки», «Сновидение шамана», письмо «Якутской интеллигенции».
Даже если не знать, что знаменитый шаман Кэрэкэн, принадлежавший к роду Кулаковских, до отъезда на Таатту жил возле Ленских столбов, очевидно для человека, бывавшего тут, что здешние скалы каким-то образом связаны с созданными Алексеем Елисеевичем Кулаковским в Качикатцах шедеврами.
Не трудно допустить и то, что таинственные и зачастую жутковатые береговые «столбы», что сплошной стеной растянулись на десятки километров, могли вызвать мысль уподобить величественное течение Лены бурному потоку Терека.
Да и сами скалы, принимающие порой причудливые очертания лежащих на берегу людских тел, тоже при определенном настроении вызывают ассоциации с образами лермонтовского стихотворения.
Но связь, разумеется, глубиннее и, как мы увидим по поэме «Сновидение шамана», таинственнее. И никакой роли не играет тут, что сам Кулаковский, кажется, непосредственно о Ленских столбах ничего не писал, такое ощущение, что он читал эти скалы как знаки неведомых миров, складывая из них пророчества поразительной точности и глубины.
Где-то в причудливых и таинственных знаках, порождаемых нагромождением прибрежных скал, и рождается развернутый в поэме «Дары реки» рассказ о безысходности борьбы Добра со Злыми силами природы, бесперспективности торжества светлых начал над темными, бессолнечными силами…
Кстати сказать, эта проблематика поэмы «Дары реки» позволяет по-иному взглянуть и на стихотворение «Обездоленный еще до рождения», открывая в нем более глубокий сокровенный смысл.
Герои стихотворения «Обездоленный еще до рождения» живут на основе традиционной этической культуры.
Современного читателя, особенно живущего за пределами Якутии, удивляет, почему мать ребенка из всех возможных вариантов выбирает для него самый на первый взгляд незавидный. Но удивляться тут нечему. Как справедливо отметил Егор Винокуров, «мать, описываемая А. Е. Кулаковским, — типичный образ, созданный из тысяч прототипов».
Героиня стихотворения знает, что сыну предстоит жить в крайне суровых условиях и, чтобы пройти через жестокие испытания, он должен обладать не силой, не красотой, не мудростью, а прежде всего способностью к «выживаемости»… Без этой «выживаемости» не нужны ни сила, ни красота, ни мудрость.
Созданием поэтических шедевров творческая деятельность подрядчика А. Е. Кулаковского в 1909 году не ограничивалась. Тогда же с успехом сыграл он главные роли в пьесах «Разбойник Манчары» и «Женитьба» Н. В. Гоголя на сцене инородческого клуба в Якутске.
Жена А. И. Софронова Е. К. Гоголева вспоминала: «Однажды, мне тогда было лет 17–18, ко мне зашли подруги и сказали, что готовится к постановке «Женитьба» Гоголя в переводе на якутский язык. Начавшая было играть в ней, дочь Ивана Гавриловича Васильева, Саша, отказалась. Сказали, мол, что я могла бы сыграть. Посоветовали сходить, попробовать. Оказалось, в постановке принимают участие люди, очень известные и просвещенные… Тут я, испугавшись, наотрез отказалась. Сослалась на родителей, они-де не разрешат.