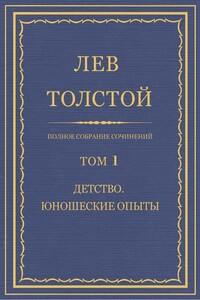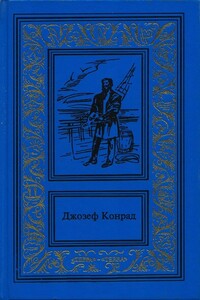Невозможно представить себе, какой пыткой была для него восторженность толпы. Им двигала искренняя любовь к правде, и все иное он считал лишь тенями; ничто, лишенное божественной сути, что делает жизнь жизнью, не имело для него ни веса, ни ценности. Но чем же был он сам? Истинной сущностью – или самой смутной из всех теней? Он страстно желал подняться на свою кафедру и во всю силу своего голоса объявить людям, кто он такой. «Я, кого вы лицезреете в черных одеяниях священничества, я, что поднялся на священную кафедру и поднял бледное лицо к небу, приняв на себя ответственность говорить за вас перед Святым Престолом Божиим, я, чьей жизни вы приписываете святость самого Еноха, я, чьи шаги, как вам кажется, оставляют святой след на земле, чтобы пилигримы могли последовать за мной в обитель блаженства, я, что крестил ваших детей, я, выдыхавший последнюю молитву над вашими умирающими друзьями и слышавший их ускользающее “Аминь” из мира, в который они отошли, я, ваш пастор, которого вы так почитаете и кому верите, – я по сути своей осквернение и ложь!»
Не раз мистер Диммсдэйл поднимался на кафедру с целью не спускаться с нее, пока не произнесет подобных слов. Не раз он прочищал горло и делал долгий, глубокий, трепещущий вдох, который должен был вернуться в мир отягченный самым темным секретом его души. Не раз – да нет, куда больше сотни раз – он действительно говорил! Говорил! Но как? Он говорил своим слушателям, что он подлинная мерзость, худший из худших, самый ужасный из грешников, мерзость, сущность невообразимого беззакония и лишь благодаря чуду его гнусное тело еще не корчится перед их глазами в огне, ниспосланном яростью Всемогущего! Разве можно было бы выразиться яснее? Почему же люди не поднимались со своих скамей, повинуясь общему импульсу, и не сбрасывали его с кафедры, которую он осквернил? Но нет, они этого не делали. Они все слышали, но лишь восхищались им еще больше. И не догадывались, какая мрачная суть крылась в этих самоуничижительных словах. «Благочестивый юноша! – шептались они между собой. Святой на земле! Увы! Если он приписывает подобную грешность своей белоснежной душе, какой же жуткий спектакль являла бы ему твоя душа или моя!» Священник отлично знал – столь тонким и полным раскаяния лицемером он был! – в каком свете увидят его неясную исповедь. Он стремился обмануть себя, успокоить мятущуюся совесть фальшивым признанием вины, но лишь совершал очередной грех и осознавал свой стыд без мгновенного облегчения от подобного самообмана. Он говорил истинную правду и превращал ее в чистейшую ложь. И все же, согласно своей природе, он любил истину и презирал ложь в мере, которая свойственна лишь немногим. А, следовательно, больше всего остального он презирал самого себя.
Внутреннее беспокойство толкнуло его к практикам, больше соответствовавшим старой, испорченной вере Рима, нежели чистому свету церкви, в которой он был рожден и воспитан. В тайном чулане, запертом на ключ, хранилась окровавленная плеть. И часто этот протестантский и пуританский богослов хлестал ею собственные плечи, горько смеясь над собой в процессе и наказывая себя еще безжалостней за свой горький смех. Он привык, так же как и многие иные благочестивые пуритане, поститься – однако, в отличие от них, не для того, чтобы очистить тело и стать лучшим проводником божественного света, – со всей строгостью, пока колени не начинали дрожать от слабости. Пост был для него актом покаяния. Он проводил бдения, ночь за ночью, иногда в полной темноте, иногда при слабом свете ламы, а порой вглядываясь в собственное лицо в зеркале при самом ярком свете, который мог на себя навести. И подобным образом он постоянно проводил самонаблюдения, которыми мучился, но не мог очистить себя. В длительных бдениях разум его зачастую работал быстрее и видения словно летели перед ним, некоторые неразборчиво, слабо светясь собственным светом в дальнем сумраке комнаты, некоторые более ясно и совсем рядом с ним, в зеркале. Вот являлась толпа дьявольских форм, которые ухмылялись и насмехались над бледным священником, маня его за собой; вот группа сияющих ангелов, тяжело, словно под бременем печали, взлетавших вверх, но становившихся все более эфемерными в отдалении. Затем являлись почившие друзья его юности и его седобородый отец, который хмурился, как святой, и мать, которая отворачивалась, проходя мимо Призраком матери – эфемерной фантазией о матери, – и все же, мне кажется, она могла бы бросить полный сожаления взгляд на своего сына! А вот по комнате, которую призрачные мысли делали еще мрачнее, скользила Эстер Принн с маленькой Перл в алом платьице и указывала пальцем вначале на алую букву на своей груди, а затем на грудь самого священника.