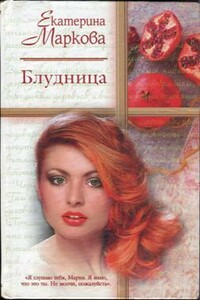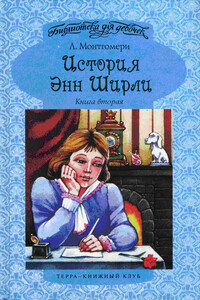Севку держали в следственном изоляторе, и им должны были со дня на день заняться психиатры из института судебной медицины. В тот вечер он так и не подошел к распростертой на полу Кате, продолжая стоять прислонившись к порталу, и его мертвенно-бледное лицо имело выражение крайнего, небывалого облегчения… Чистые, блестящие, правдивые глаза без малейшего намека на панику или страх, слегка закушенная, точно в глубоком раздумье, нижняя губа, спокойный, расслабленный лоб и, как две багровых рябинины на белом снегу, пылающие мочки ушей, словно по ошибке прилепленные к бледному, неподвижному лицу. На вопрос милиции, прибывшей следом за реанимацией, он охотно ответил:
— Да, я признаюсь в убийстве. Я зарядил пистолет настоящими пулями. Вина Максима лишь в том, что он отличный стрелок и всегда попадает в цель. На это я и рассчитывал. Смерть должна была быть мгновенной и без мучений.
Нина Евгеньевна последовательно, убедительно и умно доказывала следствию, что Севка — абсолютно невменяем, ибо не мог быть в здравом рассудке человек, чья каждодневная жизнь на глазах всего театра была переполнена сумасшедшей любовью, нежностью и истинным рыцарским отношением к женщине, которую он убил.
Самым сильным качеством в характере Ковалевой было умение быть пристрастной. Она была готова на все ради того, к кому она благоволила. Севку она обожала. И теперь стояла насмерть, чтобы защитить его. Хотя самой большой помехой на намеченном ею пути был сам Севка. Свиданий с ним не полагалось, но Нина Евгеньевна имела огромное количество связей и нашла-таки адвоката, который тонко и умело взялся за защиту Киреева, и через него Ковалева теперь владела информацией, как себя вел подзащитный. А он словно присутствовал при разбирательстве дела, к которому имел отношение как свидетель. Легко отвечал на все вопросы, постоянно подчеркивал, что если Максим Нечаев и не проверил, чем заряжен пистолет, то только лишь потому, что он, Севка, сделал все, чтобы всучить Максиму оружие буквально в последнюю секунду перед выходом на сцену. Да вообще-то актер не обязан проверять заготовленный реквизит. Его дело играть, а не копаться в деталях вложенного ему в руки пистолета, тем более что Нечаев уже больше пятидесяти раз выходил с ним на сцену и играл этот эпизод. Все было бы ничего, но когда Севку спрашивали о его чувстве к Кате, на котором была построена вся стратегия Ковалевой, он пожимал плечами и заявлял, что на эту тему говорить отказывается. На вопрос, почему он совершил это дикое хитроумное убийство, он опять же пожимал плечами и отвечал: «Это уже случилось. Ее нет… Я признаюсь, что виновен в ее смерти».
…Алена выздоравливала на редкость быстро. Даже врачи удивлялись способности ее организма мгновенно откликаться на ту многопрофильную терапию, что они проводили. Послеоперационные швы уже были сняты, но в постели удерживали многочисленные переломы, которые еще беспокоили.
После первых двух более или менее продолжительных посещений Глеб с горечью убедился, что Алена многого не помнит. У нее в памяти образовались черные дыры, и она периодически проваливалась в них, тревожно прислушиваясь к себе и как бы догадываясь интуитивно, что что-то не так, но что именно — не понимала. Глеб поделился своими наблюдениями с лечащим врачом Алены, но тот отнесся к этому спокойно, утверждая, что это — следствие травмы, стресса и длительного отсутствия сознания и что со временем память восстановится.
Глеб не навязывал Алене никаких тем, он лишь осторожно поддерживал разговор, который она сама начинала. Она никогда не упоминала о театре, не спрашивала о злополучной премьере и об актерах, не интересовалась производственными делами. Зато много говорила о своем детстве, вспоминала какие-то смешные детские истории, интересовалась у Глеба, каким он был мальчишкой, и даже попросила принести его детские фотографии. Иногда она вдруг словно спотыкалась о какую-то мысль или внезапно посетивший ее сознание образ, и тогда замолкала надолго, и ее тоненькие гибкие пальцы лихорадочно скручивали и раскручивали концы простыни.