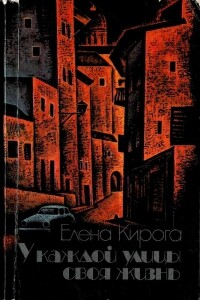— Ты сошла с ума. Тебе же нет шестнадцати! А жениться можно в восемнадцать.
— Жанке разрешили.
— Так то Жанка! Прекрати! Прекрати я говорю! Прекрати!
Любовь раздевалась на маленькой лужайке между двумя елями, за которыми садилось солнце. Маленький сверкающий лифчик переливался в малиновых лучах, словно рокайльная виньетка. Он повис на тяжелой еловой лапе, и Чок не мог отвести от него глаза. Вернее будет сказать, что он не решался перевести их на хохочущую Любовь. Краем глаза он видел ее пылающее плечо и золотые волоски на протянутой к нему руке. Земля дрожала под его ногами, он весь трясся, словно прикоснулся к оголенному проводу. Тело не слушалось, оно взрывалось изнутри.
— Прекрати! — крикнул Чок.
Он не кричал, он рычал, выл, лаял, сотрясался от рыка, воя и лая. А Любовь смеялась. Она смеялась так, что ему хотелось ее убить.
— Ты просто боишься, потому что никогда не делал это, — сказала Любовь, отсмеявшись. — Мне сказали, что нужно просто попробовать, и все произойдет само собой. Нужно прижаться друг к другу, закрыть глаза, и все случится само. Не бойся! Иди ко мне.
— Уйди! Уйди! Я тебя ненавижу, — крикнул Чок и побежал куда глаза глядят.
Ели хлестали его по лицу, по раскрытым глазам и по щекам, а он хотел еще, еще, еще! Когда он, пошатываясь, вышел на тропинку, Любовь ждала его на скамейке, одетая и совершенно спокойная.
— Глупый ты, — сказала она. — А теперь этого не будет между нами никогда. С другими будет, а с тобой нет.
— Не смей! — прошипел Чок.
— А это уже не твое дело, — холодно ответила Любовь. — Проводи меня домой и езжай в Крым. Лучшей езжай, если желаешь мне добра. И постарайся убедить Софию, что между нами все кончено навсегда. Этим ты окажешь мне большую услугу. Можно сказать, спасешь.
— Я же тебе сказал: я поговорю с Софией, и все будет в порядке.
— Не будет. Она меня ненавидит. Кроме того, между нами действительно все кончено. Разве ты не понимаешь?
Чок набычился. Он бы отдал все на свете, чтобы не расплакаться, но слезы текли из глаз, и не было силы, которая могла бы их остановить. В тот же вечер он безразлично кивнул на вкрадчивое обещание Софии предоставить ему в Крыму райские удовольствия и небывалые развлечения. Поймав его кивок, София зарделась, как цветок граната, потом ее щеки приняли багровый оттенок спелых зерен того же плода, потом она вошла в кабинет Геца и сказала спокойно и торжественно: «Чок с радостью согласился ехать в Крым».
— Ну и дурак! — раздраженно буркнул Гец.
23. Когда феи играли на флейтах
Утром того же дня, когда Гойцманы поехали на юг, Юцер и Любовь отправились в Палангу. Поезда туда не ходили, а такси не удалось достать, поэтому им пришлось ехать автобусом. Юцеру нравилось следить за тем, как победоносно двигалась по автобусу Любовь, вызывая восхищенные взгляды мужчин и раздраженное невнимание женщин, как легко она покоряла пространство, подчиняя его себе, как без всякого напряжения ей удалось пересесть самой и пересадить Юцера с неудобных задних сидений на менее тряские передние. Мир подчинялся ее красоте и уверенности в своей силе, он подносил ей приношения.
— У нас есть бутерброды, — не застенчиво, а спокойно и с чувством собственного достоинства отклонила Любовь предложение высокого парня спортивного вида и сложения, предложившего им разделить с ним яйца и помидоры.
— От вишен вы же не откажетесь, — радостно включился в игру мужчина лет тридцати пяти в сером пиджаке с немодными, подбитыми ватой плечами.
— У меня есть груши, — ринулся к ним с предложением коренастый юноша в трикотажной рубашке, поделенной по вертикали на красные и синие поля.
Помимо удовлетворения, Юцер испытал при виде столь неожиданного и явного превращения Любови в объект повсеместного внимания мужчин легкий укол в области сердца. Читатель напрасно искал бы в этой сценке набоковские мотивы, несмотря на то, что от Любови исходил легкий мускусный душок, смешанный с запахом ромашки, в растворе которой были тщательно ополосканы ее пушистые волосы, как и на то, что душок этот был уловлен ноздрями Юцера и благосклонно оценен его нервными рецепторами. Однако в нем говорил вовсе не педофильский пыл, которого Юцер никогда не испытывал. Его терзала обыкновенная отцовская ревность.