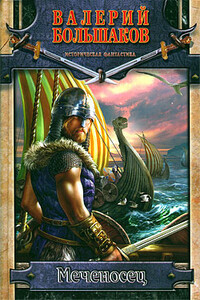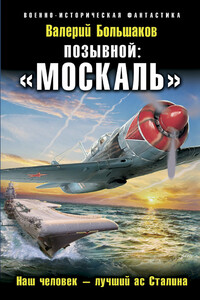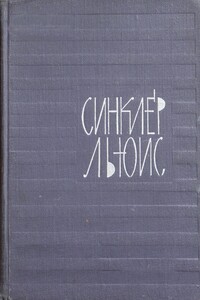Вообще-то, Первопрестольная-Белокаменная и ранее казалась Авинову провинциальной — узкие и кривые московские улицы, мощённые щербатым булыжником, не сравнить было с державными проспектами Питера, одетыми в брусчатку и торец.
Туда и сюда по площади грохотали ломовые телеги, «эластично шелестели» пролётки на шинах-«дутиках», сигналили редкие автомобили — высокие, мощные «паккарды» с жёлтыми колёсами возили членов ВЦИК; массивные «роллс-ройсы» или «делоне бельвилли» с цилиндрическими радиаторами служили Совнаркому, а всякие «нэпиры» да «лянчи» переводили бензин в наркоматах и коллегиях.
Здания вокруг выглядели запущенными — облезлыми, обшарпанными, пятиэтажки перемежались убогими деревянными домишками. Витрины магазинов позаколочены досками, на дверях ржавели замки, а от вывесок остались одни «тени» на выгоревшей штукатурке. Редко-редко можно было увидеть открытую лавку, она узнавалась по очереди — отпускали пшено по карточкам да по куску мыла в одни руки на месяц.
Но более всего Авинова удручали не пейзажи, а люди — московская публика стала совсем иной. По улицам более не прогуливались дамы в длинных платьях, шелестя шелками и простирая нежный запах духов, не было видно лощёных офицеров или важных чиновников в котелках, не пробегали стайками хихикавшие гимназисточки.
Прохожие имели строго пролетарский вид, одеваясь по рабоче-крестьянской моде. Вот молодой ответработник в чёрном пиджаке и сатиновой косоворотке, в суконных мешковатых штанах, заправленных в сапоги с галошами, и в белой матерчатой кепке. Под мышкой он тащил пузатый портфель, другою рукой отбиваясь от беспризорной малышни — чудовищно грязных, вшивых оборванцев, материвших деятеля прокуренными голосами. А вот молодая особа в неряшливо сшитой юбке ниже колен, в кожаной куртке, в шнурованных ботинках, в красном платке-повязке. Она шествовала широким мужицким шагом, прижимая к себе пухлую картонную папку с канцелярским «делом». Причём «дореволюционная» буква «ять» была замарана, а поверху вписана идеологически выверенная «е».[85]
А лица какие… Те, что были отмечены умом и чувством, терялись в массе небритых, мятых, испитых, наглых, тупых, озлобленных… Московская толпа складывалась в миллионнорылую харю «простого советского человека», харкавшего под ноги, сморкавшегося в два пальца, гоготавшего надо всем, что было выше убогого пролеткульта.
Неожиданно Авинов почувствовал чужую руку в своём кармане. Изловчившись, он вцепился в худое запястье и вывел незадачливого карманника «на свет». Это была белобрысая личность лет тринадцати, в бушлате до колен, зато с оторванными рукавами. Штаны на отроке тоже были «с чужого плеча» и затягивались ремнём под мышками, зато на голове сидела фуражка гимназиста с кокардочкой из скрещенных листков дуба. Опасливо поискав вошек на бушлате, штабс-капитан даже удивился — не было на лице отрока того серого налёта, когда грязь въедается в кожу. Замарашка — да, но не пачкуля.
— Ты кто такой, щипач? — поинтересовался Кирилл.
Мальчишка посмотрел на него исподлобья.
— Бить будете? — осведомился он, шмыгнув носом.
— А что, надо? — с интересом спросил Авинов.
— Вообще-то, красть нельзя, — глубокомысленно заявил отрок, — за это надо наказывать. Но мне очень есть хочется… Отпустите, а?
Штабс-капитан удивился — и отпустил. Если бы замарашка поносил его матом, лягался, кусался, орал, как недорезанный, он бы отвесил ему ха-арошего пинка, но этот мальчишка вёл себя иначе, чем обычный беспризорник. Он походил на принца, волею судеб оказавшегося «на дне», но не растерявшего манер.
— Не убегай, — проворчал Авинов, запуская руку в карман.
В это время появился парень постарше, лет осьмнадцати — в очках, в солдатской шинели на голое тело. Штаны, снятые с толстяка, стягивались на его тощих чреслах, как горло завязанного мешка.
— Юра! — с тревогой окликнул он мальчишку-щипача.
— Всё хорошо, Алёша, — серьёзно ответил тот. — Я, правда, попался…
— Это твой брат? — поинтересовался Кирилл у старшего, сразу вспоминая двух «баклажек», расстрелянных в Симбирске.
— Да, — признался Алексей, неотрывно глядя на руку штабс-капитана, сжимавшую несколько царских ассигнаций, — в РСФСР, на «чёрном рынке», они котировались куда выше совзнаков и бон. — Мы раньше жили на Мясницкой, — разговорился вдруг «старшенький», словно оправдывая свой нынешний статус, — у нашего отца была большая квартира. Он уехал… по делам, но так и не вернулся.