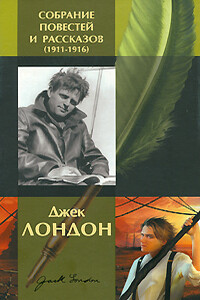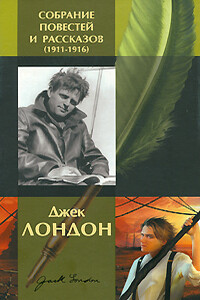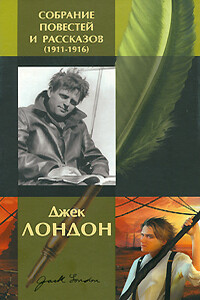— Должна признаться, — говорила Ада Вану, когда они вместе плыли в красной лодке по течению к задрапированному зеленым пологом их островку средь Ладоры, — должна признаться с болью и стыдом, что весь мой великолепный план, Ван, потерпел крах. По-моему, помыслы этой чертовки нечисты. По-моему, она воспылала к тебе преступной страстью. По-моему, мне надо ей сказать, что ты ей единоутробный брат и что миловаться с единоутробным братом не только непозволительно, но и отвратительно. Я знаю, она боится неприятных и грозных слов; я тоже боялась, когда мне было четыре года; но она скрытный ребенок по натуре, и ее надо оберегать от всяких кошмаров и всяких нахрапистых наглецов. Но если она не уймется, я всегда смогу пожаловаться Марине, сказать, что она мешает нашим размышлениям и занятиям. Хотя, может, тебе это вовсе не мешает? Может, она возбуждает тебя? Да? Признайся, она тебя возбуждает?
— Нынешнее лето гораздо печальней того, первого, — тихо отозвался Ван.
И вот мы на заросшем ивами островке посреди тишайшего из притоков Ладоры, вдоль одного берега заливные луга, на другом поэтически темнеет вдалеке, на вершине поросшего дубами холма — шато[202] Бриана. Средь этого овалом вытянувшегося приюта Ван подверг свою новую Аду сопоставительному внешнему анализу; сравнения оказались не трудны, так как образ девочки, изученный им до мелочей четыре года назад на фоне все той же струящейся голубизны, был еще ярок и свеж в его памяти.
Лоб ее как бы стал меньше, не только оттого, что стала выше она сама, но из-за ее новой прически с волнующим завитком спереди; белизна лба, ныне чистого, без единого прыщика, теперь приобрела явный матовый оттенок, кожа поперек собиралась в мелкие складки, как будто бедняжка Ада все эти годы излишне часто хмурилась.
Брови ее, как и прежде, были царственны и густы.
Глаза. Ее глаза сохранили сладострастные складки век; ресницы — эффект припушенности антрацитовой пылью; приподнятый зрачок — индо-гипнотическое зависание; веки — свою способность даже в момент мимолетного объятия пребывать начеку и широко раскрытыми; но само выражение глаз — когда она грызла яблоко или разглядывала какую-либо находку или просто внимала животному ли, человеку — изменилось, словно прибавилось подернувших зрачок наслоений молчаливой печали, и беспокойней, чем прежде, сновали в прелестных ложбинках блестящие глазные сферы: мадемуазель Гипнокуш, «чей взгляд, не задерживаясь на человеке, все же пронзает насквозь».
Ее нос, сделавшись на ирландский манер шире, теперь уж не походил на Ванов; но линия его явно стала круче и кончик был, казалось, чуть больше вздернут, и выявилась маленькая вертикальная впадина, которой Ван у двенадцатилетней холмовзбирательницы не припоминал.
Теперь при ярком свете был заметен у нее между носом и верхней губой едва различимый, темный, шелковистый пушок (сродни тому, что покрывал ее предплечья), который, как утверждала Ада, был обречен на удаление при первом же визите в косметический кабинет нынешней осенью. От присутствия помады губы ее стали теперь невыразительно тусклы, что по контрасту усиливало внезапность очарования, стоило в момент веселья или алчного аппетита обнажиться влажно поблескивавшим крупным зубам, пунцово-сочному языку и нёбу.
Теперь, как и тогда, ее шея оставалась источником самого неповторимого, самого пронзительного восторга, в особенности если она распускала волосы по плечам и изредка сквозь черные блестящие пряди просвечивала мельком кожа, теплая, белая, желанная. Брызги кипятка и комариные укусы перестали ей досаждать, но Ван обнаружил у Ады вдоль позвоночника, чуть ниже талии, бледный, в дюйм длиной, след глубокой царапины, оставленной прошлым августом невесть откуда взявшейся булавкой — а может, колючим прутиком средь гостеприимного сена?
(Какой ты жестокий, Ван!)
На тайном этом островке (запретном месте для воскресных парочек, поскольку был он собственностью Винов, и объявление с невозмутимостью гласило, дескать «нарушители рискуют пасть от пули стрелка-любителя из Ардис-Холла»; фразеология Дэна) растительность состояла из трех вавилонских ив, окаймленных ольховой порослью, и многотравия, включавшего рогоз, аир и еще немного тайника с пурпурными губками, над которым, будто над щенком или котенком, склонялась Ада, что-то ласково приговаривая. Под покровом нервно трепещущей ивовой листвы Ван производил свой обзор.