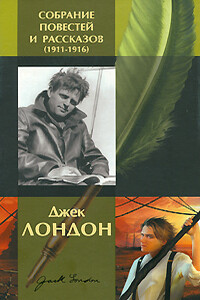В смятении она уставилась на свой подол.
— Не то, что ты подумала, — спокойно сказал Ван. — Это иная жидкость. Поверь, она чиста, как сок травы. Ну вот, с Нилом все в порядке. Точка. Стэнли.
(Интересно, Ван, почему ты так стараешься всю поэзию и необычность нашего прошлого обратить в пошлый фарс? Нет, правда, Ван! Это я говорю правду, именно так все и было. Я чувствовал себя не слишком уверенно, отсюда развязность, самодовольная ухмылка. Ah, parlez pour vous[120]: я утверждаю, дорогой, что пресловутое прослеживание пальцем рельефа твоей Африки вплоть до самого конца света случилось значительно позже, когда этот маршрут мне был прекрасно знаком. Прости, но нет — если бы люди запоминали все одинаково, они бы не были разными людьми. Все у них было бы точь-в-точь. Так ведь мы-то не «разные»! По-французски «думать» и «воображать» — одно и то же слово[121]! Вспомни про doucer, Ван! Ну да, конечно же, я все время думаю об этом, да-да… все это было doucer, дитя мое, рифма моя. Так-то лучше, сказала Ада).
Пожалуйста, рассказывай дальше!
Ван распластался, обнаженный, на диване в замершем свете свечей.
— Давай поспим здесь, — предложил он. — Они не вернутся, пока рассвет не зажжет потухшую дядюшкину сигару.
— У меня рубашечка trempée[122], — прошептала она.
— Сними, накроемся халатом, как пледом.
— Не смотри, Ван!
— Так нечестно, — сказал он, помогая ей вскинуть сорочку и протащить вверх через встряхивающую волосами головку. Ее белое, как мел, тело было притенено единственным угольно-черным пятнышком в самом сокровенном месте. Между лопаток розовел шрам от гадкого фурункула. Поцеловав шрамик, Ван лег навзничь, заложив руки за голову. Она разглядывала сверху его загорелый торс и муравьиный караван, тянущийся к оазису вокруг пупка; его тело было не по годам богато растительностью. Ее круглые юные грудки нависали как раз над его лицом. Как врач и как художник я против пошлого курения сигареты после полового акта. Тем не менее, истины ради, скажем, что Ван прекрасно знал о стеклянной папироснице с турецким трауматисом, но она лежала на полке довольно далеко, лень тянуться. Высокие часы отбили четверть неведомого часа, а Ада, опершись щекой о кулачок, с явным интересом наблюдала за впечатляющим, хотя поначалу неожиданно странным подергиванием, упорно запускаемым в ход по часовой стрелке, и затем окончательным подъемом тяжелеющего, возрождающегося мужского естества.
Но плюш дивана оказался пупырчат, точно утыканное звездами небо. Перед новым развитием событий Ада принялась на четвереньках расправлять халат, подправлять подушки. Дитя природы, преобразившееся в кролика. Потянувшись, он на ощупь ухватил сзади пальцами в ладонь ее пушистую заводь, неистово взлетев в позу мальчика, трудящегося над постройкой замка из песка, но она повернулась к нему лицом, наивно готовая слиться с ним в позе, в какой Джульетту учили принять ее Ромео>{44}. И угадала верно. Впервые за все развитие этой любви нашего угловатого отрока озарил свыше блаженный дар поэтического слова, он что-то бормотал, пристанывая, что-то нежно шептал, покрывая ее лицо поцелуями, на трех — трех величайших в мире — языках выкрикивая ласковые слова, которые впоследствии не могли не составить целый словарь уменьшительных эпитетов, претерпевший за годы многие исправления и дополнения вплоть до окончательного издания в 1967 году. Когда он слишком неистовствовал, она усмиряла его, выдыхая «чш-ш-ш-ш» ему прямо в губы, и вот уже, не стыдясь, оплела его руками и ногами, как будто во всех наших с ней снах уже целую вечность только и занималась любовью, — однако нетерпение юной страсти (хлынув через край, как вода в Вановой ванне, когда он старый, седой, чудаковатый любитель слова воспроизводил все это на краешке гостиничной кровати) не пережило первых нескольких толчков; страсть взорвалась, коснувшись лепестка орхидеи, но предупреждающе прозвучала трель малиновки, и уж огни стали снова пробиваться к дому сквозь складки рассветной мглы, точно сигналами светлячков обозначая берега водоема; точки экипажных фонарей переросли в звездочки, послышался хруст колес по гравию, прибежали домой довольные ночным развлечением собаки. Из полицейского фургона цвета тыквы скакнула вниз затянутая в чулок ножка поваровой племянницы Бланш (увы, позже, много позже полуночи!) — и наши нагие дети, подхватив короткий халат и ночную рубашонку и пригладив на прощанье свой диван, зашлепали босиком прочь, каждый со свечой в руке в свою целомудренную спаленку.