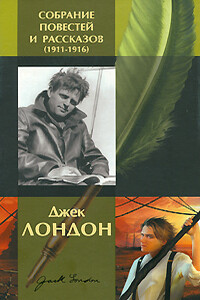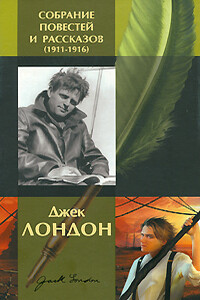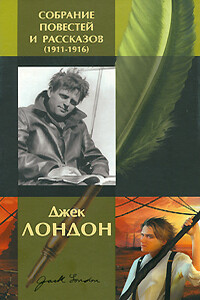Ада, или Эротиада - страница 164
— Ну уж не знаю (well, I don't know)! — проговорила Люсетт (слегка повторяя в этой фразе меланхоличную интонацию матери, как бы тем самым передавая смесь испуга и неведения, но вместе с тем — судя по едва заметному движению подбородком, выражавшему скорее снисходительность, чем согласие, — несколько принижая и приглушая суть отпора несогласного с ней собеседника).
— Я только хотела сказать, — продолжала она, — что он был красивый мальчик испано-ирландского происхождения, темноволосый и бледный, так что со стороны их принимали за близнецов. Я не сказала, что они и в действительности двойняшки. Или «тройняшки».
Тройняшки? Дройняшки? Кто так произносил? Кто? Кто? Или дройняшки каплями ронялись во сне, в каком? Живы ли сиротки? Но вернемся к Люсетт.
— Примерно через год она узнала, что он содержанец одного старого педераста, и бросила его, и тот у моря во время прибоя пустил себе пулю в лоб, но серфингисты и хирургисты вытащили его, хотя мозг так и остался поврежден; говорить он больше не сможет никогда.
— Бессловесного всегда полезно иметь про запас, — угрюмо заметил Ван. — Мог бы выступить в роли безъязыкого евнуха в фильме «Стамбул, мой бюль-бюль!» или в роли конюха, переодетого дворовой девкой, переносчицей записочек.
— Что, Ван, я утомила тебя?
— О, ничего подобного, захватывающая и трепетная историйка болезни!
А что, и в самом деле неплохо: погубить троих за три года, при этом подстрелив четвертого. Отличный выстрел… Адиана! Интересно, кого заарканит теперь.
— Ты уж не кори меня за эти подробности блаженства наших жарких до жути ночей — до этого бедняги и в промежутках между ним и очередным вторженцем. Если б мои губы были холст, а ее губы кисть, ни пятнышка на мне не осталось бы без краски, и наоборот. Это ужасно, Ван? Ты презираешь нас?
— Напротив! — отвечал Ван, удерживая ускользающий приступ напускного гаденького веселья. — Не был бы я гетеросексуальным самцом, непременно бы стал лесбиянкой!
Его банальная реакция на ее заготовленную мелодраму, на коварство от отчаяния, заставило Люсетт сдаться, замолкнуть перед черной ямой, где невидимая и вечная публика издает то тут, то там убийственные покашливания. Ван в сотый раз бросил взгляд на синий конверт: его ближайший, длинный край — чуть наискось к обрыву глянцевой поверхности красного дерева, левый верхний угол полуприкрыт подносом с коньяком и содовой, правый нижний направлен к любимому Ванову роману «Знак пощечины», валявшемуся на буфете.
— Давай повидаемся в ближайшее время, — сказал Ван, в раздумье покусывая большой палец, проклиная образовавшуюся паузу, страстно желая узнать, что в конверте. — Ты должна приехать и погостить у меня на квартире, которая на Алекс-авеню. Я только что обставил комнату для гостей bergère, torchère[372] и креслами-качалками; похоже на будуар твоей матушки.
Люсетт а l'Américaine[373] слегка присела, едва улыбнувшись поникшими уголками рта.
— Заедешь на пару дней? Обещаю вести себя пристойно. Идет?