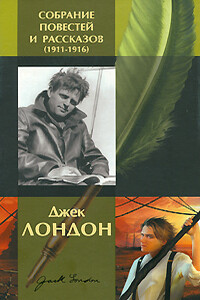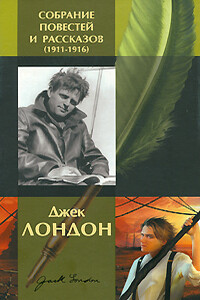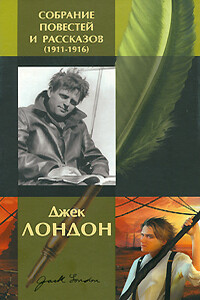— Перестань! — вскричал Ван. — Это «Избранное» Фолкнерманна>{113}, кинутое моим предшественником за ненадобностью!
— Фуй! — вырвалось у Люсетт.
— И прошу, без пошлых восклицаний!
— Прости… ах, поняла, да-да, не буду…
— Вот и отлично! Все равно ты прелестна. Рад, что навестила.
— И я рада, — сказала Люсетт. — Послушай, Ван! Только не смей думать, что я «липну» к тебе, чтоб снова и снова повторять, как безумно и беспросветно тебя люблю и что ты можешь делать со мной что пожелаешь. Если я просто не нажала кнопку и не опустила это послание во вспыхнувшую щель и не убралась прочь, то только потому, что мне надо было увидеться с тобой, потому что надо еще кое-что тебе рассказать, даже если в итоге ты будешь ненавидеть и презирать нас с Адой. Отвратительно трудно (it is desgustingly hard), особенно для невинного существа — то есть невинного формально, для невинной кокотственно, полу-pule[357], полу-puella[358], объяснить. Понимаю всю деликатность темы и что иные непостижимости не следует обсуждать даже и с единовагинальным братом — непостижимости не только в нравственном, но и в мистическом смысле…
Единоутробным… хотя это близко. Письмо явно от сестры Люсетт. Узнаваемы и образ, и окрас. «И образ твой, и синева окраса…» (заезженный романс, крутившийся на сонороле). Посинело от молений: RSVP[359].
— …но еще и в чисто физическом. Ведь, милый Ван, в этом-то прямом физическом смысле я знаю нашу Аду не меньше, чем ты.
— Выкладывай! — устало сказал Ван.
— Она разве не писала тебе об этом?
Отрицание Хриплым Выдохом.
— О том, что мы называли Давить Пружинку?
— Вы?
— Мы с Адой.
О.Х.В.
— Помнишь бабушкин секскретер между глобусом и геридоном? В библиотеке?
— Вообще понятия не имею, что такое «секскретер»; да и что такое «геридон» не представляю себе.
— Но глобус-то ты помнишь?
Золушкины пальчики на пыльной поверхности Татарии трут в том месте, где должен пасть захватчик.
— Это — помню; и еще какой-то столик, украшенный позолоченными дракончиками.
— Так это и есть геридон! Настоящий китайский столик, покрытый на японский манер красным лаком, а секскретер стоял между ними.
— Так китайский или японский? Ты уж определись. И я все еще не могу себе представить, что это за инкрустер такой. То есть что он собой представлял в 1884 или 1888 году.
Секскретер. Звучит отвратительно, как все связанное с той сестрицей с ее «бледнолопиями» и «молоспермами».
— Ван, Ваничка, мы уходим от главного! А главное в том, что этот самый письменный стол или, если угодно, секретер…
— Одно название хуже другого, но штука эта стояла за дальним концом черного дивана.
Впервые упомянутого вслух — хотя для обоих он негласно служил ориентиром, как изображение правой руки на прозрачном дорожном указателе, кажущейся повисшей в бесконечном пространстве оку философа, выползшему на волю из глазницы, точно из скорлупы облупливаемое крутое яйцо, но помнящему еще, каким концом ближе к воображаемому носу; между тем взгляд свободный с чисто германской грацией скользнет вкруг стеклянного указателя и обнаружит просвечивающую насквозь левую руку — вот оно, решение! (Бернард сказал в шесть-тридцать, но можно немного опоздать.) Рациональное в Ване всегда служило оправой чувственному: незабвенный, шершавый, пушистый плюш Виллы Разврата.
— Ван, ты намеренно уходишь в сторону…
— Разве я куда-то ухожу?
— …потому что за дальним концом, в ногах дивана-ваниады — помнишь? — был только стенной шкафчик, в который ты запирал меня раз десять.
— Ну уж и десять! (преувеличение). Разок — и больше ни разу. Там зияла дыра на месте замочной скважины, под стать Кантову глазу. А глаз у Канта, как известно, был огуречно-зеленый.
— Так вот у этого секретера, — продолжала Люсетт, скрещивая ноги и рассматривая свою левую туфельку, изысканную, лакированную Хрустальную Туфельку, — у этого секретера был складной ломберный столик внутри и чрезвычайно секретный ящичек. Наверное, ты подумал, что он забит любовными письмами нашей бабушки, написанными ей в возрасте двенадцати-тринадцати лет. А вот наша Ада знала, да, она-то знала про этот ящичек, только позабыла, как вызвать извержение, или как это у них там у карточных столиков и у конторок зовется.