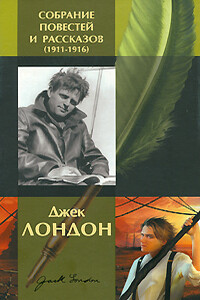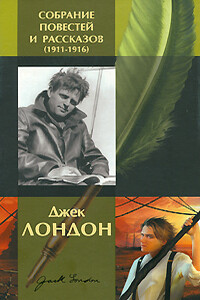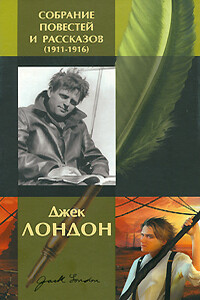Этот день наступил довольно скоро. Долго катая его по коридорам с мелькавшими мимо, стряхивавшими градусники прелестными эфирными существами, поднимая и спуская на двух различных лифтах, причем второй был весьма просторен, с черной и при металлической рукоятке крышей, закрепленной поверх стен, с остатками на отдающем мылом полу то ли лавровых листьев, то ли остролиста, Дорофей наконец, подобно кучеру Онегина, возвестил: «Приехали!» («we have arrived») и легонько подпихнул Вана мимо двух кроватей за ширмами к третьей у окошка. Там Вана и оставил, уселся за небольшим столиком у двери в уголку и лениво развернул русскоязычную газету «Голос» («Логос»).
— Меня зовут Ван Вин — на случай, если вы уж не настолько в ясном уме, чтоб признать человека, виденного всего лишь дважды. Согласно больничным записям, вам тридцать лет; я бы дал вам меньше, но и в вашем возрасте умирать рановато, — сказал, я бы, твою мать — и недозрелому гению, и вполне созревшему мерзавцу, а может, и обоим. Как вы могли бы догадаться по скромному, но определенному убранству этой тихой палаты, вы, выражаясь одним языком, неизлечимо больны, выражаясь иным — дохнущая крыса. Никакие кислородные аппараты не помогут вам избежать «агонии агоний» — уместный плеоназм профессора Безносой. Физические мучения, которые вы испытаете, а возможно, уже испытываете, должно быть, ужасны, но они ничто в сравнении с тем, какие вам грозят в предстоящей загробной жизни. Ум человека, мониста по натуре, не способен постичь два «ничто»; ему доступно только одно «ничто», свое биологическое небытие в неопределенности прошлого, ибо память его абсолютно чиста, и это «ничто», являющееся частью прошлого, допустить не так уж трудно. Но другое «ничто» — которое, возможно, столь же легко себе домыслить — остается логически необъяснимым. Говоря о пространстве, можно представить себе в его беспредельной самости некую живую частицу; но во времени подобной аналогии с нашей быстротечной жизнью мы не отыщем, ибо сколь ни быстротечно (а тридцатилетний отрезок, право же, до неприличия краток!) наше восприятие бытия — оно не точка в вечности, но щель, трещина, пропасть, пролегающая по всей ширине метафизического времени, рассекая его и сияя — пусть узенькой полоской — от задней до передней плоскости. Таким образом, мистер Рак, мы можем поговорить о прошлом или же, в более размытом, но привычном смысле, о будущем, однако мы попросту не можем осязать другое «ничто», другой вакуум, другую пустоту. Забвение — одноразовый спектакль: посмотрели раз, повторения не будет. Значит, придется воспользоваться некой продленностью расстроенного сознания, и тут я, мистер Рак, подхожу к самой сути. Пусть Вечный Рак, бесконечная «Раковость» — это пустяк, но ясно одно: единственное осознанное чувство, которое сохранится и в бесконечности, — это осознание боли. Маленький Рак сегодня — это тяжкий мрак, завтра — ich bin ein unverbesserlicher Witzbold[319]. Можно — я бы даже сказал, должно — себе представить, как там и сям в поту или, в посюсторонности крохотные сгустки частиц, по-прежнему хранящих черты Рака, сдвигаются, как-то и где-то притягиваются друг к дружке, вот сплетение зубных болей Рака, там свились ночные кошмары Рака — точь-в-точь группки безымянных беженцев из какой-то стертой с лица земли страны, сбившихся в кучку ради толики вонючего тепла, ради грязных подачек или ради того, чтоб поделиться воспоминаниями о невыразимых пытках, пережитых в татарских лагерях. Должно быть, в старости есть особое истязаньице: чтоб стоял и ждал в бесконечно длинной очереди к невидимому нужнику. Итак, герр Рак, я утверждаю, что живучие клетки стареющей Раковости будут сливаться в такие вот мучительные очереди, которым никогда в преисполненной болью и паникой бесконечной ночи не вывести мученика к потаенной, зловонной дыре. Разумеется, вы можете возразить, если вы любитель современной беллетристики и без ума от лексикона английских литераторов, дескать, настройщик роялей «из низших слоев общества», который влюбился в легкомысленную девицу «из высшего общества», тем самым разрушив свою семью, вовсе не заслуживает, чтоб на него как на преступника набрасывался с обличениями какой-то наглец…