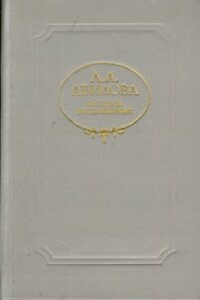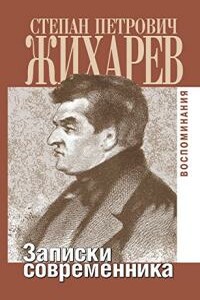- Ты кинулась ему на шею, психопатка! - кричал Миша, - завязала любовную интрижку под предлогом любви к литературе. Ты носишь мое имя, а это имя еще никогда по кабакам не трепали. Он хочет увезти тебя, а знаешь ли ты, сколько у него любовниц? Пьяница! бабник!
Я была ошеломлена, убита. Но когда я немного успокоилась и была в состоянии думать, я сказала себе: а все-таки этого не может быть. Это чья-то злобная выдумка, чтобы очернить в моих глазах Чехова и восстановить против него Мишу. Кому это могло быть нужно? Я решила, что Миша мог слышать эту сплетню только от двух лиц. Одно было вне всяких подозрений, другое... И сейчас же мне вспомнилось, что это другое лицо сидело за юбилейным столом наискось от нас и, по-видимому, очень скучало. Он был писатель и печатал толстые романы{213}, но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным подобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чем я впоследствии убедилась.
После обеда он сказал мне мимоходом:
- Я никогда не видал вас такой оживленной.
"Он! - решила я. - Конечно, несомненно - он. Выдумал, насплетничал..." Я справилась и узнала, что действительно он участвовал на ужине после юбилея. Я сказала о своих предположениях Мише.
- Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказал, - признался Миша. - Но ведь это известная скотина!
Я почувствовала большое облегчение.
Прощаясь, я дала слово Антону Павловичу написать ему и прислать свои рассказы, и теперь я решила, что это можно сделать, но все-таки в письме упрекнула его за лишнюю болтовню за приятельским ужином. Он сейчас же ответил мне:
"Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться, к тому же обвинение Ваше слишком /214/ неясно, чтобы в нем можно было разглядеть пункты для самозащиты. Но, сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли?
Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у Вас в Петербурге. Или же если нельзя не верить, то уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т.д. Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетни - это все равно, что просить у жида взаймы: бесполезно. Думайте про меня, как хотите.
...Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге"{214}.
С этих пор началась наша переписка с Антоном Павловичем. Но меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург. Значит, мы больше никогда с ним не увидимся? Не будет больше этих ярких праздников среди моей "счастливой семейной жизни"?
И каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце.
IV
В те случайные промежутки, когда у нас в доме было вполне благополучно: дети здоровы, Миша спокоен и в духе, я часто думала о том, что я пользуюсь в настоящее время самым большим счастьем, которое суждено мне судьбою. Большего и иного не должно быть никогда. Правда, радовали еще успехи по литературе, были письма Чехова. Но писать мне удавалось не много и не часто, потому что дети неизбежно хворали, то врозь, то все вместе, и тогда я могла думать только о них, отдавать все свое время и днем и ночью только им. Да и Мишин несчастный характер прорывался против его воли так неожиданно, что остеречься и уберечься было невозможно. И это делало меня всегда очень несчастной.
Письма Антона Павловича я получала тайком, через почтовое отделение, до востребования, и делала это потому, что боялась, как бы письмо не пришло в мое отсутствие и не попало бы в недобрый час. Но Миша знал /215/ о нашей переписке, и я иногда давала ему некоторые письма на прочтение.
- Ты видишь, как они мне полезны. Я пользуюсь его советами...
- Ерунда, - говорил Миша. - А я воображаю, какую ахинею ты ему пишешь. Вот что я желал бы почитать. Дай как-нибудь. Дашь?
Нет, я не дала.