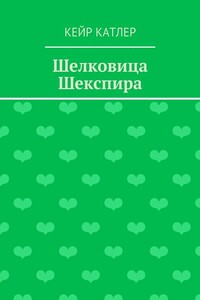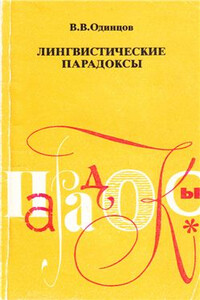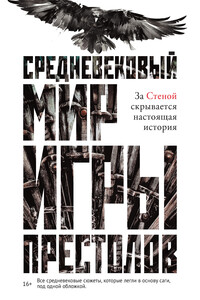40 лет Санкт-Петербургской типологической школе - страница 34
3.1. Что касается постулата 1.1.4 (см. 1.1), то его можно переформулировать так: теряя свою позицию, элементарный знак теряет и свое значение, которое он имел в данной позиции. Сохранение значения при перемене позиции характерно, как мы видели на примере алеутского языка, только для морфем необязательных порядков. Обязательные морфемы, входящие в минимальную модель словоформы (ср. выше, 1.2), имеют в цепочке словоформы стабильные позиции. Сдвинуться они могут только в одну из необязательных позиций, ср. данные финского языка:
(19а) oike-us «право» →
(19б) oike-ude-n (форма родительного падежа) →
(19в) oike-ude-n-muka-isu-us «справедливость» →
(19 г) oike-ude-n-muka-isu-ude-n (форма родительного падежа).
Морфологический сегмент — n, соотносимый со значением генитива, имеет это значение только в правой терминальной позиции, ср. (19б), (19 г). В композитных словоформах (19в), (19 г) — n, разумеется, генитивного значения не имеет.
Вот еще один пример, из русского языка:
(20) пред>1 — у-пред>2-и-л-ø.
В словоформе два морфологических сегмента — пред-, но корневое значение имеет один из них, — пред>2-. Сегмент — пред>1- сдвинулся в необязательную позицию, что позволяет элиминировать его, не разрушая словоформы:
(20а) у-пред-и-л-ø (например: упредил противника).
3.2. Отдельно следует упомянуть случай, когда морфема, квалифицируемая как обязательная, может занимать разные позиции в цепочке и сохранять при этом некоторое общее, инвариантное значение. Такова чукотская морфема ine/ena, которая фиксируется в принципиально разных позициях: как левее корня, так и правее его. Выделение этой морфемы в минимальной модели полиперсонального глагола дает следующую картину:
(21) Р>аg/>ine3+Т/М+>ine2+R+Р>оb>2+А+Р>оb>3/>ine1 + Р>ag/Num.
Это — так называемая обобщенная модель, ср. выше (8): в ней присутствуют только обязательные позиции, но поскольку позиция Р>ob представлена тремя взаимоисключающими квазипозициями, то в конкретной словоформе полиперсонального глагола может наличествовать только одна из этих квазипозиций, ср. (9). Сочетание разнопорядковых те в словоформе современного финитного глагола запрещено. Проблеме морфемы ine/ena посвящена специальная работа, см. [Володин 2000б], где предпринимается попытка диахронического анализа. Цифровая маркировка морфы ine справа налево связана с гипотезой формирования глагольной системы в чукотско-корякских языках. Из (21) следует, что ine>3 занимает позицию лица агенса, ine>2 и ine>1 — взаимоисключающие позиции лица объекта, причем ine>2 ассоциирован со значением 1SG (меня), ine>1— со значением 3SG/3SG (он-его). В современных чукотско-корякских языках морфы ine>3 и ine>1 имеют вид соответственно ne-/na- и — nin(e) и обнаруживаются только при диахроническом анализе. В левой терминальной позиции морфа ne-/na- (ine>3) ассоциирована со значением прежде всего 3PL (они), но означает не собственно лицо, а то, что агенс ниже пациенса в «иерархии активности» или в «дейктической иерархии», ср. [Comrie 1980; Кибрик 1997]. В этих работах делается синхронный анализ, но тем не менее некоторые выводы имеют важное значение и для диахронии, например: «иногда само значение морфемы кодирует не некоторую семантическую константу, а ее переменный маркированный статус» [Кибрик 1997: 56]; (курсив мой. — А. В.). Однако применительно к ine/ena можно говорить и о некотором семантическом инварианте. М. Фортескью предложил удачную формулировку исходного значения этого элемента: «pertaining to» («имеющий отношение к») [Fortescue 1993:19, footnote 16].
В случае с ine/ena встает вопрос, идет ли речь об одной морфеме или о нескольких омонимичных морфемах, как чукотск. — ra- (ср. (17)) или ительменск. — aj- (18). Я полагаю, что это одна морфема. Специфика ее состоит в том, что, имея своим планом содержания общее указание («имеет отношение к»), эта морфема маркирует те категориальные значения, которые характерны для данной позиции в линейной цепочке словоформы.