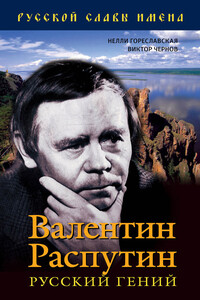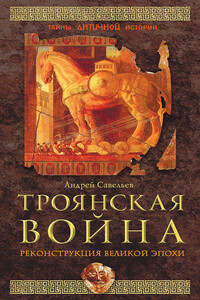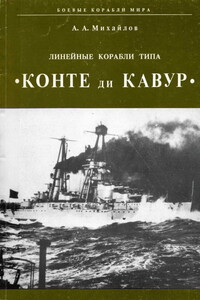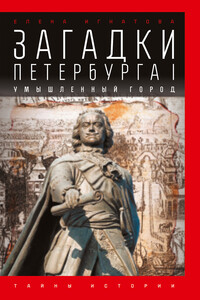В эмиграции разрушительная энергия революции обращалась на самих революционеров, изводящих друг друга. Герцен писал: «Я не мог привыкнуть к этому недостатку пощады, к этой смелости языка, не останавливающегося ни перед чем!»
То, чем сам Герцен сам грешил в отношении Государства Российского, обрушивалось теперь на него самого: «У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была с своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились, – страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе». «…они не считали нужным себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержания верха в споре не щадили ничего, и я часто с ужасом и удивлением видел, как они (…) бросали без малейшей жалости драгоценнейшие жемчужины в едкий раствор и плакали потом. С переменой нервного тока начинаются раскаяния, вымаливание прощенья у поруганного кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты в тот же сосуд, из которого пили». «При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью».
Все, что осталось цельного в этих личностях – это ненависть к государству и его экономической неправде, как они ее понимали. А они ее никак не понимали, потому то не желали ни о чем думать. «Люди эти, очень молодые, покончили с идеями, с образованьем; теоретические вопросы их не занимали отчасти оттого, что они у них еще не возникали, отчасти оттого, что у них дело шло о приложении». «Наукой или делами они занимались мало – даже мало читали и не следили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаниями и ожиданиями, они не любили выходить в другие области; а нам недоставало воздуха в этой спертой атмосфере. Мы, избаловавшись другими размерами, – задыхались!»
И вот эти люди, выдающие свои хаотические мнения о России за общие мнения всей России о самой себе, представляющие себя знатоками России и едва мельком знакомые только с какой-нибудь ничтожной группой говорунов, не слушавших друг друга, в эмиграции стали хамами, потрясшими воображение прежних добровольных изгнанников, которые и сами за словом в карман не лезли, но все же знали грани приличия. «Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило удила». Эти «нигилисты нового поколения» как бы сказали своим предшественникам: «Вы лицемеры, – мы будем циниками; вы были нравственны на словах, – мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими, – мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, – мы будем толкаться, не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести, – мы за честь себе доставим попрание всех приличий и презрение всех points d’honneur’oв».
И Герцен дает им уничижительную характеристику, которую в значительной мере должен был бы отнести и к своему поколению революционеров: «Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолках. Для него они остались чужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, строкулистами без места, немцами из русских».
Герцен не увидел, что в этой новой волне эмиграции отразилась вскормленная его же усилиями нечаевщина, которая уже не вдавалась ни в какие теории, а утверждала свою ненависть револьвером, кинжалом и удавкой. Революция стала из течения мысли и барского каприза уголовщиной, увлечением экзальтированных невежд, бесовщиной.