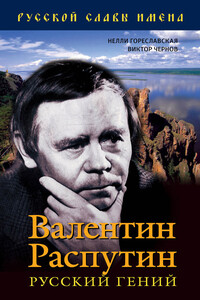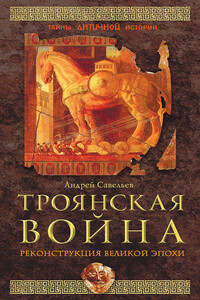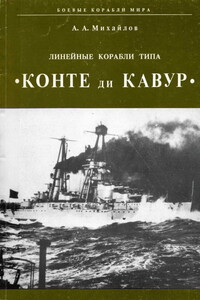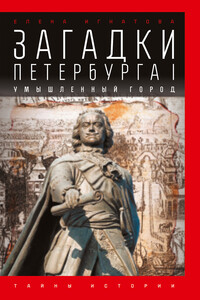1612. Минин и Пожарский. Преодоление смуты - страница 66
Невероятный догматизм людей, считавших себя чуть ли не самым динамичным общественным слоем в своих государствах, не мог не поражать Герцена, более свободного в своих воззрениях и не привязанного к эмигрантским партиям. «Они, как придворные версальские часы, показывают один час, час, в который умер король… и их, как версальские часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показывают одно событие, одну кончину какого-нибудь события. Об нем они говорят, об нем думают, к нему возвращаются. Встречая тех же людей, те же группы месяцев через пять-шесть, года через два-три, становится страшно – те же споры продолжаются, те же личности и упреки, только морщин, нарезанных нищетою, лишениями, – больше; сертуки, пальто – вытерлись; больше седых волос, и все вместе старее, костлявее, сумрачнее… а речи все те же и те же!»
«Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохранила все раздоры, все партии. Сумрачная среда чужой и неприязненной страны, не скрывавшей, что она хранит свое право убежища не для ищущих его – а из уважения к себе, – раздражала нервы. Партии эти составлялись так, как у нас выдумываются министерства или главные управления, так, как иногда компонисты придумывают в операх партии для Гризи и Лаблаша не потому, чтоб эти партии были необходимы, а потому, что Гризи или Лаблаша надобно было употребить…»
Пошлость эмиграции измотала Герцена: «А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я очень вынослив, но выбился, наконец, из сил. …Говорил я не как посторонний, не для упрека; говорил оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило из терпенья. Что я раньше отрезвел, это мне ничего не облегчило».
Особенно тяжко воспринял Герцен новую волну эмиграции, взгляды которой олицетворял Чернышевский и петрашевцы. Надежды, что это волна смоет прежние дрязги, не оправдалась. «Круг этот составляли люди молодые даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные». «Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда – безмерное самолюбие. Не то здоровое, молодое самолюбие, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время неуверенное в себе».
Герцену не дано было понять, что он имел дело не с определенным типом революционера, а с революционером вообще. Черты, которые он считал болезненными и преходящими, были сущностными. Но Герцен предпочитал болезнь революционности свалить на систему воспитания современной ему России: «Вся система казенного воспитания состояла в внушении религии слепого повиновения, ведущей к власти, как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттесняемы внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее… Вместе с жгучим самолюбием прививалась какая-то обескураженность, сознание бессилия, усталь перед работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни».