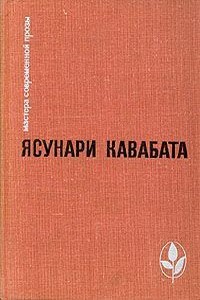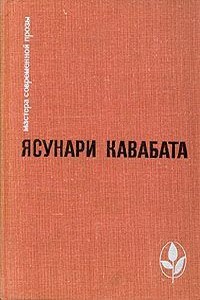Дно реки. Оба слова чертежным шрифтом. Потому что дно выполняет чисто номинальную функцию: дна.
Оно лишено трав, омутков и прочей необходимой загадочности. Оно построено из бетонных плит, покрыто липкой жиденькой гадью и проглядывается вдаль даже по ночам.
Так, с моста под фонарем хорошо видны на дне детский велосипед, две бутылки без этикеток и пожилой мужчина в зимнем полупальто. Он лежит лицом вверх, и, судя по выражению лица, ему уже ни больно, ни смешно, а вдоль ноги плывет бревно, чуть заметно покачиваясь на чуть заметном течении.
Откуда взялось бревно в типично городской реке и не является ли оно, скажем, столбом от фонаря,– оба вопроса могли бы остаться без ответа, когда бы не этот голос – чу! словно издалека – крик не крик, стон не стон, но косорото и жалобно: тятя, мол, тятя, сети-те опе-еть бревна всякого понаташшыли…
Впрочем, все это игра воображения.
Принято считать, что фонари зажигаются во столько-то ноль-ноль. На самом деле, пусть даже включенные в ноль-ноль, минуту или две – очень неприятных, как всякое ожидание – фонари как бы симулируют свет. Они едва видны. В сумерках это действует нехорошо.
Глядя на такой фонарь снизу вверх, действительно можно вообразить себя на дне реки – скорее всего, небольшой – на самом дне небольшой жухлой реки, где фонарь есть все тот же фонарь, но сквозь толщу вод, а ты – одиноко утонувший утопленник, глядящий на фонарь вторую ночь подряд.
Картинку легко сморгнуть. Но лучше перетерпеть. Потому что на смену ей, синеватой и тягучей, тут же возникает другая: холодная, как стол, и подробная настолько, что выглядит просто-напросто воспоминанием – о себе, лежащем повдоль стола с крепко пришитой головой, и о многих чужих ступнях вокруг, сложенных одинаковой заиндевелой бабочкой.
Самое удивительное здесь – ничем не подтвержденная уверенность, что это не просто морг. А судебный морг. И что синяя лампочка вверху вот-вот перегорит. Как уже было…
Но тут обычно вспыхивает свет. И становится ясно, что это не лампочка, а фонарь.
И вот когда наконец вспыхивал свет, Нектофомин – дождавшись этого на подоконнике – делал вот что: сперва печально шевелил усиками, затем, как бы что-то пожевав, вздыхал, подтягивал брюшко и, пихнувшись от подоконника, пускался в ежевечерний путь, мелькая от фонаря к фонарю и подолгу кружа в ровном слюдяном жужжании.
Из сказанного можно сделать вывод, будто Нектофомин был жук. Это не так.
Жужжали фонари. Разгораясь, они жужжат. А Нектофомин спешил домой и был вовсе не жук, а бывший главный бухгалтер типографии, который называл себя Нектофомин.
Например, так:
"По-моему, некто Фомин уже сказал, что этого не подпишет".
Или: "По-моему, некто Фомин просил принести счета".
Но это было давно.
Теперь он числился какой-то счетной мелочью и сидел в бывшем кабинете гражданской обороны. И если бы в типографии кто-то говорил "Нектофомин", или уже просто – "Фомин", подразумевался бы всего лишь усатенький старичок, в очках, который целый день сидит или лежит за столом (в последнем случае он быстро просыпался и показывал входящему три отпечатанных на лбу нарукавных пуговицы).
Но никто не говорил – Фомин. Говорили так:
"Когда пенсионеров-то сокращать? Надо же, слушайте, сокращать! Пенсионеров-то! Ну?"
То есть Фомин был работающий пенсионер.
Что же, в таком случае, происходило по вечерам? Очень просто: происходило как сказано. Поскольку был март, и натаявшее за день к вечеру делалось льдом, и чтоб не брякнуться где-нибудь в темноте, Фомин дожидался фонарей, а затем начинал кружить, так как наши электросети (тятя-тятя!) раскинуты неравномерно, и путь напрямик был темен и пролегал вдобавок мимо двух распивочных и одного интерната для полудурков.
Еще он кружил и по делам – хлеб, молоко. И, войдя, допустим, в "Молоко", совсем по-мушиному принимался тереть очки. Однако это означает только, что Фомин по вечерам покупал себе еду. И жил один. Вот и все.
Единственное – может смутить как-то на первый взгляд, что он жил в парикмахерской.
Парикмахерская была пустяковая – на одного мастера и на три окна. В первом висело подтверждение, что это действительно парикмахерская и что она работает до двадцати, на втором стоял фикус, а в третье гроздью выглядывали интернатовские полудурки, которых здесь по очереди стригли "под ноль" и мазали зеленкой в нужных местах, и стриженые дожидались нестриженных. Но затем, как видно из Схемы Города (в типографии их печатали очень часто, и у Фомина было восемь штук), чуть южней открылась новая парикмахерская "Локон", а старую получил главный бухгалтер Нектофомин, хотя вот так – дескать, Фомин получил парикмахерскую – конечно, не считал никто. Наоборот, в типографии считалось, что товарищу Некто, пароходу и паровозу, отдали однокомнатную, гадство, квартиру, в каменном доме – поздравляем, поздравляем, Лев Николаевич, здравствуйте, ага, вот гад-то еще – ну, в каменном-то доме, напротив интерната, ага. А сам Лев Николаевич ощущал разве что чисто бухгалтерскую неудовлетворенность присвоенным квартирным номером "восемьдесят", который шел сразу за 63-м на первом этаже и перед 64-м на втором – чтобы не перецифиривать весь подъезд.