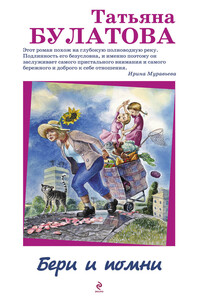В селе Коромысловка, что стояло на одноименной речке глубиною по щиколотку, на улице Матросова, около леса, в доме № 5 жила-была девочка Оля. Толстая и кудрявая. С большой головой и с большим сердцем. В сердце жила любовь: к папе, маме, бабушкам, дедушкам, даже к младшему брату Вовке, а также к собакам и гусям.
– Га-га-га, – говорила Оля, просовывая ногу сквозь прутья загона.
– Га-га-га, – отвечал ей гусак Трифон и вразвалку шел к соблазнительным, оббитым по носу сандалиям.
– Га-га-га, – приглашала девочка важную птицу к диалогу.
– Га-а-а-а, – выдавливал из себя гусак, выпучивал глаза и вытягивал шею.
– Олька, – дергал птичницу за мятый подол задравшегося к самым трусам вылинявшего платья младший брат Вова. – Не боис-ся?
– Нет, – не задумываясь, отвечала девочка и вытягивала пухлую ножку как можно дальше.
Воодушевленный сестринской смелостью семилетний карапуз, найдя в плетне подходящую дырку, делал то же самое. Правда, нога его была босая и грязная.
– Гуся-гуся-гуся, – тоненько зазывал мальчик. – Иди сюда, гу-у-уся. Иди сюда, беленький.
Трифон панибратства не любил и, надув шею, шипел, грозно глядя на шевелящиеся грязные пальчики.
– Убери ногу, – строго приказывала Оля.
– Не уберу.
– Ущипнет.
– Тебя же не щипает.
– Меня – это меня, – со знанием дела произносила толстая девочка, не сводя глаз с гусака. – Меня он любит.
– И меня любит, – со слезами в голосе не сдавался братишка.
– Тебя он любить не может. Потому что ты – это он!
– Я не он! – сопротивлялся Вовик.
– Он. – Сестра стояла на своем.
– Не он! – вошел в раж мальчик.
– А я говорю – он!
– Не он!
– Он!
– Не-е…
Не успел Вова выпалить свое очередное «не он», как Трифон ущипнул его за ногу, загоготал и воинственно замахал крыльями.
– А-а-а-а, – зашелся в плаче утративший бдительность спорщик, и Оля нехотя вытащила ногу вслед за пострадавшим. Посмотрев на гусака укоризненно, ткнула брата в спину, да так, что тот согнулся вдвое, и недовольно буркнула:
– Давай иди уже. Не реви.
Не тут-то было. Вовик голосил, как на пожаре, явно испытывая удовольствие от издаваемых им самим звуков.
На трубный рев навстречу детям неслась мать, на ходу вытирая руки о засаленный фартук.
– Что-о? Что случилось?
– Вовку Трифон ущипнул.
– А куда ты глядела? – возмутилась Ираида Семеновна.
– А че он ногу свою туда засовывает?
– А она че засовывает? – плача, сдал сестру Вовик.
– Куда?
– В забор, – сообщил травмированный гусаком родственник.
– Ты че, Оль, опять к гусям лазила?
– Я не лазила, – честно призналась нерадивая дочь.
– Ла-а-а-а-зила, – стучал дальше Вова.
– Че врешь-то? – возмутилась Оля и замахнулась на брата.
– Э-э-эй, ты, давай руки-то не распускай! – прикрикнула на дочь Ираида Семеновна.
– А че он врет-то?
– Это еще надо выяснить, кто из вас врет.
– Олька врет.
Мать укоризненно посмотрела на дочь, собираясь сказать привычное «Нехорошо, доча», но не успела, потому что вспомнила об оставленных на плите оладьях.
Незатейливое кушанье к детской трапезе издавало тоскливое урчание среди пузырящегося масла и дымный запах, почуяв который Ираида Семеновна огорченно воскликнула:
– Господи, сгорели!
Всплеснула руками и запричитала:
– Сгоре-е-ели, сгоре-е-ели…
Потянула носом, рассвирепела и, повернувшись на 180 градусов, решительно направилась к дому, приговаривая:
– Господи, ну что за дети! Ну не дети, а уроды какие-то!
– Олька – урод, Олька – урод, – радостно подхватил Вовка и запрыгал на одной ножке.
– Это кто урод? – возмутилась Оля. – Я урод?
– Ты, ты, – с готовностью подтвердил мальчик, продолжая ритуальный танец победителя.
Старшая сестра явно уродом быть не хотела, хотя всегда это про себя подозревала. Виной всему была эта проклятая родинка, спрятавшаяся в правой ноздре, отчего правое крыло носа было сине-малинового цвета. Многочисленные родственники за изъян это считать отказывались, гордо ссылаясь на Ольгиного деда с такой же отметиной на носу. Зиновию Петровичу роковое пятно жить не мешало. За всю свою долгую жизнь он привык к изумленным взорам сельских ребятишек, к тому, что сердобольные мамаши пугали им непослушных своих чад, шипя на ухо: «Вот отдам тебя Зяме Меченому…» На прозвище свое Ольгин дед давно не обижался, чего нельзя было сказать о его строптивой внучке, вздрагивающей от слов: «Вон Ольга Меченая пошла».