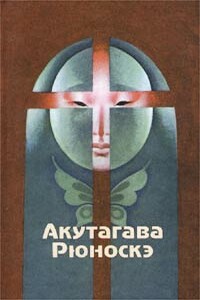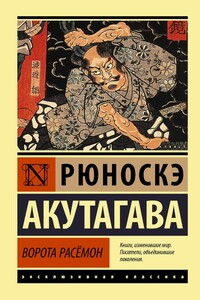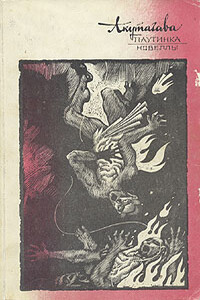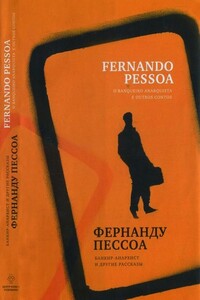Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь нее все, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киемидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошел бонза с гонгом. Прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем – редкое зрелище – проехала тележка с плетеным камышовым верхом, запряженная рыжим быком. Все это появлялось в широких щелях тростниковой занавески то справа, то слева и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом.
Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину-гончару:
– А на поклонение к Каннон-сама по-прежнему народ так и валит.
– Да! – ответил гончар несколько недовольно, может быть оттого, что был поглощен работой. Впрочем, в лице, да и во всем облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздернутым носом злости не было ни капли. Одет он был в холщовое кимоно. А на голове красовалась высокая помятая шапка момиэбоси, что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тоба.
– Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак в люди не выйду, просто беда.
– Шутишь…
– Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах – дело нетрудное, было бы лишь за что! Та же торговля – только не с заказчиками, а с богами и буддами.
Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвел взглядом мастерскую. В крытом соломой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться, и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина; словно под легким весенним ветром, обвевавшим красноватые глиняные тела горшков и кувшинов, все здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. И казалось, даже ласточки и те из года в год вьют свои гнезда под кровлей этого дома…
Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова:
– Дедушка, ты на своем веку много чего и видал и слыхал. Ну как, и вправду Каннон-сама посылает людям счастье?
– Правда. В старину, слыхал я, это часто бывало.
– Что бывало?
– Да коротко об этом не расскажешь. А начнешь рассказывать – вашему брату оно и не любопытно.
– Жаль, ведь и я не прочь уверовать. Если только привалит счастье, так хоть завтра…
– Не прочь уверовать? Или не прочь поторговать?
Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен, – глина, которую он мял, стала принимать форму горшка.
– Помышлений богов – этого вам в ваши годы не понять.
– Пожалуй что не понять, так вот я и спросил, дедушка.
– Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают – счастье или злосчастье.
– Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего же тут не понять, счастье это или злосчастье?
– Вот этого-то вам как раз и не понять!
– А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры.
Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таща за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с кадками на голове. У одной в руке была цветущая ветка вишни, вероятно – подарок домашним.
– Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на Западном рынке держит лавку с пряжей.
– Вот я и жду не дождусь рассказа, дедушка!
Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипывая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки: должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни.
– Не расскажешь, а, дедушка? – сонным голосом проговорил подмастерье немного погодя.
– Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот…
С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал свое повествование. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить только человек, не думающий о том, долог ли, короток ли день.