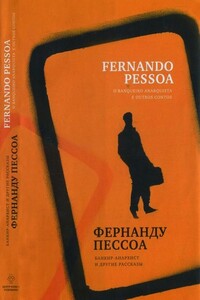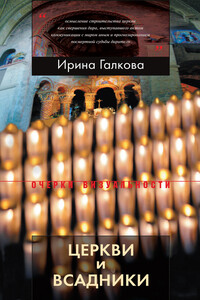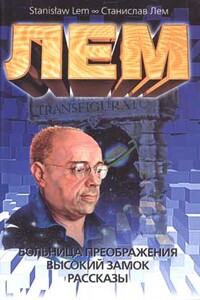[1]Едва закрываю глаза — комната (она только что стала моей) вдруг исчезает; ее вытесняет рогатое фиолетовое пятно и плывет на зеленоватых волнах, как гигантская тень корабля.
Таким представляется мне остров, на который сегодня вступил я и где буду жить.
И тут же слышу мелкое цоканье подошв о камень, тех звонких деревянных подошв, которые отбрасывают от себя круглые женские пятки. Словно кто-то сыплет грецкие орехи на жесть. Трах-тах-тах-тах...
На фоне вечернего неба проплывают четыре женщины с корзинами на головах наподобие античной вазы. Правая рука согнута кольцом между корзиной и плечом, а левая свободно опущена и то выставляет, то прячет ладонь.
Трах-тах-тах-тах...— цокает о камень дерево подошв.
Серая стена.
Растопырив негнущиеся ноги, около нее стоит ослик. Он скучает, как английский лорд, повидавший весь свет. Глаза в белых мохнатых кольцах, как в очках, и гной длинной полоской тянется до самого беловатого носа. Не болен ли ты, бедный ослик? Вата торчит в твоих ушах, а хвост так покорно прикрывает кургузый зад.
На piazz’e еще белеют колонны, и, наклонившись над морем, черные силуэтики перерезают линию неаполитанских огней.
Трах-тах-тах-тах...
На башне бьют часы: два раза тихо и шесть я насчитал тяжелых и полнозвучных.
С улиц исчезают люди, магазины гаснут, двери и окна смежают глаза, и остров слепнет.
А море внизу шумит.
И снова ослик, видимо, последний. Его уши еще издали покачиваются, как пальмы на ветру.
Заполнил улочку грохотом огромных колес и мчится мимо меня, а я встречаю, как уже хорошо знакомые, те же очки, нос, мышиный белый живот и нескладно обтесанный зад с прижатым крепко хвостом.
Теперь я иду одинокий, между домами, словно по коридору. Две стены, как почетная стража, молча пропускают меня вперед, над головой порою блеснет фонарь. Нет, я не один. Моя тень, как невольник, расстилается у ног и показывает дорогу. Потом она вдруг отбегает назад и, уцепившись за меня, покорно ползет по камням между двумя онемевшими стенами...
Трах-тах-тах-тах...— звонко сыплются грецкие орехи на твердый камень, но где — впереди, позади или надо мной,— не знаю...
Просыпаюсь в непонятной тревоге и сажусь на постели. Знаю, что теперь ночь, но что случилось? Телефон звонит сильно и упрямо. Может быть, какое-нибудь несчастье, потоп, землетрясение? Звонки не дают прийти в себя. Часто, визгливо, как истеричный смех, льются беспрестанно и тревогой наполняют дом. Встать и спросить, кто звонит? Крикнуть телефону в глотку, заткнуть ее сердитым: кто звонит? Но я не встаю. Слышу в своей комнате какие-то тревожные шумы, что-то ходит по ней, затаив стоны, шелестит во тьме бумагой, толкает стены и дребезжит стеклами. А телефон бьется в истерическом припадке, усиливает смех, как безумный, и уже сливает его в текущий поток плача.
Тогда я догадываюсь: буря.
Это она так раскачивает море и скалы; сдвинула остров, понесла по волнам, а сама в бешенстве кричит в телефон.
Мне кажется, что покачнулась кровать, покачнулись стены — и я плыву. Ну что ж, плыть так плыть. Засовываю голову под подушку и сплю.
Встаю уже поздно, бегу неодетый к окну и отворяю обе половинки. Эге-ге! Хотя солнце и ослепляет, но я вижу, что мы все-таки плывем. Море вспенилось и кипит, а ветер надул сосны на вершинах скал и мчит остров на этих черных парусах, как корабль.
Море поблескивает злой голубизной, водяная пыль бьет его белым крылом.
Изогнулось, поднялось крыло вверх и, пронзенное солнцем, упало. А за ним летит второе, третье.
Кажется, что неведомые голубые птицы налетели вдруг на море и упорно бьются грудью, подняв широкие белые крылья.
Одеваюсь. Выхожу. Куда там! Нечем дышать. Ветер загоняет дыханье обратно в грудь. Взял деревья за чубы, гнет их к земле. Сам стонет, и стонут деревья. Злобно воют узкие проходы, виноградники и дома. Качается земля под ногами, как палуба корабля, и, чтобы не упасть, хватаюсь за стены. Согнувшись, надутый ветром, словно парус, вижу сквозь прищуренные глаза ползущих на четвереньках «пассажиров».
— Buon giorno![2]