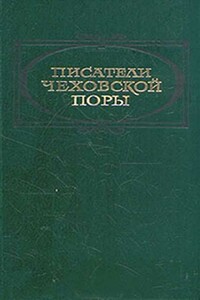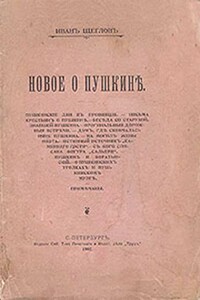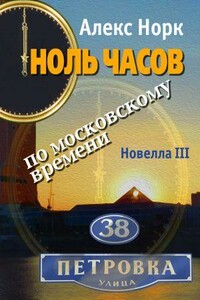— Господин Караулов, пожалуйте!.. Сейчас ваш выход!
Небольшой человек в испанском костюме, гримировавшийся в конце уборной, наскоро оглянул себя в зеркало, надвинул себе на лоб какую-то зловещую шляпу и, придерживая левой рукой шпагу, а правой — свежеподклеенную бороду, стремительно ринулся за кулисы.
Прибывший в клуб всего за четверть часа до начала представления, чтобы заменить внезапно заболевшего «благородного отца», он еще не успел прийти в себя после часового своего путешествия по злейшему петербургскому морозу и смирить свое благородное негодование на подлеца-извозчика, содравшего с него от Коломны[1] до «Ситцевого клуба» неумолимый полтинник. Возмущенный до глубины души низостью людей, пользующихся крайним положением таких бедняков, как он, получавших за «выход» по четыре с полтиной, г. Караулов, против воли, больше думал об утраченном полтиннике, чем об испанском гранде, которого ему предстояло сейчас изображать и о личности которого он имел самое смутное понятие.
И вот он уже на своем посту, за кулисами, перед потайным ходом принадлежащего ему — на время спектакля, разумеется, — великолепного севильского замка. Но проклятый полтинник решительно мешает Караулову позабыться, что он находится под южным небом Испании, и он взволнованно топчется на месте, стараясь согреть занемевшие ноги и дуя на отмороженный безымянный палец левой руки, заглядывает через плечо сценариуса в обтрепанную тетрадку, по которой тот следит за выходами.
— Голубчик, — шепчет он ему, — объясни, сделай милость, что я теперь такое? Я ведь роли ни в зуб… Прямо из Коломны!..
Сценариус — высокий, заспанный господин с подвязанным флюсом и мутными глазами — кивнул ему на сцену по направлению толстого испанца с тараканьими усами, стоявшего на коленях перед чахоточной девицей с вырезом на груди и распущенными волосами, и апатично пояснил:
— Понимаешь, сеньор Алонзо соблазнил твою дочь… А ты, понимаешь, внезапно приехал и упрекаешь Алоизо…
— Ты бы, все-таки, хоть приблизительно сказал… в каком роде надо упрекать? — засуетился Караулов.
— Ах, когда же теперь… Суфлер скажет, в каком роде! — И, внушительно нажав благородного гранда ладонью в спину, сценариус буркнул: — Ну, ступай… упрекай!..
Караулов моментально придал своему лицу оттенок меланхолии и тупоумия и, закинув за плечо конец испанского плаща, медленно выполз на сцену, к великому ужасу толстого испанца с тараканьими усами. Девица с вырезом упала в обморок, а суфлер прохрипел из своей будки по адресу Караулова:
— А, сеньор, я приехал, кажется, несколько ранее, чем вы ожидали?!
— Сеньор, вы, кажется, не ожидали, что я приеду из Месопотамии?! — произнес Караулов и саркастически улыбнулся.
— Несколько ранее, — подсказал суфлер.
— Да, я приехал из Месопотамии! — с достоинством повторяет коломенский испанец и понемногу… входит в роль.
— Кто это такой? — обращается сидящая в первом ряду увядшая дева с русалочным взглядом к своему соседу, пожилому господину с тем особым геморроидально-разочарованным выражением лица, которое обличает в нем клубного завсегдатая…
— Это некто Караулов, — сонно поясняет завсегдатай. — Так, ничтожность… кожаный актер!
Кожаный актер — вот был над ним общий приговор! Эта кличка, пущенная кем-то из закулисной братии при первом появлении Караулова на клубных подмостках, так и закрепилась за ним на всю жизнь, как нечто очень характерное и только ему одному присущее. Кожаный актер — это, так сказать, значило, что обладатель клички не только никогда, не вылезал из своей кожи, превращаясь в то или другое лицо, но и также что его кожа могла, по, требованию антрепренера, претерпевать, без особого ущерба для ансамбля, самые удивительные превращенья — от короля до нищего и от великосветского виконта до водевильного дядюшки с табачным носом. Словом, это был совершенно особый театральный злак, уродившийся на той, совершенно особой клубно-театральной почве, где актер, знающий роль, — такая же редкость, как в январе земляника, где три репетиции одной и той же пьесы считаются-историческим событием, а вникающий в дело автор чем-то вроде закулисного домового, понапрасну смущающего мирных людей… В этом коптильном и зевающем мире по какому-то предрассудку причисляющем себя к артистическому, такая безличность, как Караулов, представляла своего рода практическую ценность. Готовый во всякое время дня и ночи по первой повестке из клуба выступить в любой роли старинного и новейшего репертуара, он хотя никогда и не выдвигал ничего, но никогда ничего вконец не портил, не вызывал аплодисментов, но не получал и свистков и, видя «роль» лишь в редких случаях накануне спектакля, а самую пьесу лишь в руках у суфлера, справлялся с похвальным достоинством со своей неблагодарной задачей, разрешив в лице своем иеразрешимейшую загадку — служить искусству без искусства…