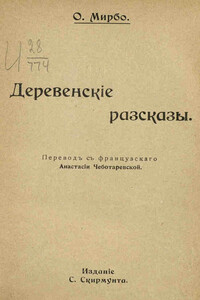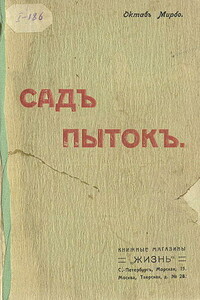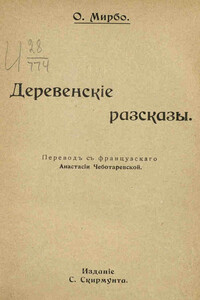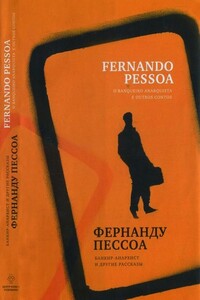Дядюшка Пито собирался на пахоту: он запрягал на конюшне лошадей, ворчал, чертыхался, отплевывался… Тусклый свет фонаря слабо освещал сквозь роговые стенки дощатый потолок, из расползшихся досок которого выбивались клочья сена; на замусоленных стенах, забрызганных жидким навозом, плясали огромные тени животных. В дверях конюшни показалась работница Луиза.
— Хозяин, — позвала она, — хозяин!
— Ну, что еще там? — спросил Пито, собрав постромки и связывая их в один большой узел. — Что еще?
— Пожалуйте поскорей. Не понимаю, что с Перепелкой… Совсем не хочет подыматься. Уж я ее колотила в зад башмаками изо всей мочи, — не движется… А пыхтит-то, пыхтит… Боже ты мой, как пыхтит!..
— Гм… гм!.. Так-таки и не хочет подыматься,
говоришь?
— Ну да…
— Гм… гм!.. Ну, подожди меня…
Дядюшка Пито снял со стены фонарь и отправился за работницей. На дворе чуть занималось утро, холодное, бледное, окутанное ноябрьским туманом, в котором тонут небо и земля, а дома и деревья то выступают мутными силуэтами, то исчезают в густом бесцветном воздухе, словно куда-то проваливаясь… На скотном дворе куры, разбуженные петухом, уже выбирали зерна из навоза; возле лужи помоев утки чистили свои перышки; исчезая в тумане, как призрак, медленно удалялся пастух со стадом; тяжело ступая, медлительно выходили из хлева коровы и плелись гуськом к выгону, потираясь боками об ореховое дерево, с оголенных ветвей которого стекала на землю ночная влага.
Пито шел впереди Луизы и первый увидал следующее. В темной глубине сарая, откуда несло как из печки теплом и острым, сладким запахом навоза и молока, на подстилке из гнилого папоротника лежала корова. Огромные белые бока её вздымались и опадали, точно кузнечные меха в работе; ноги, в рыжих пятнах, были перепачканы зеленоватым навозом, а от морды исходили отрывистые, свистящие и хрипящие звуки. Пито отдал фонарь Луизе, а сам наклонился осмотреть корову; он ощупал все её члены своими сизыми руками, раздвинул веки, за которыми показались добрые, бессмысленные глаза, лихорадочно блестящие…
— Ну что, Перепелочка, — обратился он нежно к животному, — что моя красавица?.. Скажи, где болит, моя кралечка?.. Ну, скажи же!..
Он взял из кормушки свеклу, разломил надвое и, понюхав, предложил каждый кусок корове, но она отвернулась и по-прежнему не двигалась.
— Ох!.. ох! — пробормотал он.
Лицо его, походившее на ком земли, прикрытый фуражкой, вдруг отразило тревогу… Почесывая затылок, Пито погрузился в тягостное раздумье, а Луиза, покачивая боками, блуждала рассеянным взглядом по опустелому стойлу и массивным бревнам сруба, исчезавшим в тени угла, под крышей. Потом он бросил куски свеклы назад в кормушку, опустился на колени в навоз, приложил ухо к груди коровы, закрыл глаза, чтобы не рассеиваться, и стал слушать. Крыса пробежала по косяку яслей, шмыгнула в щель стены; куры вбежали в стойло…
— Господи, как она хрипит! — воскликнул Пито, подымаясь. — У неё в легких так бурчит, словно в бочке с молодым сидром… Да, захворала, ох, как захворала, крепко захворала… Боже милостивый! Да что же нам с ней делать, Луиза?
— Чего?
— Ступай-ка принеси из пекарни мешки из-под яблок да старую рядниновую покрышку с кадки. Господи, как ей тяжелю!
Работница передала хозяину фонарь и вышла, стуча деревянными башмаками.
Сдвинув брови, тревожный и озабоченный, Пито расхаживал возле коровы, бока которой вздымались всё порывистей и чаще.
Сердце его сжалось и дрожь пробежала по всему телу при мысли о том, что он ее потеряет, — увидит здесь бездыханной, окоченелой… Такая чудесная корова, лучшая из всего стада! Каждый день давала шестнадцать литров молока и каждый год по теленку, которого продавали за девяносто франков на ярмарке в Эшофуре. И чего она заболела? С какой стати хочет она лишить его верного и выгодного барыша? Разве за ней плохо ходили? Разве не давали ей вдоволь травы, моркови, свеклы? И, ощупывая корове хребет, брюхо, вымя, подымая опущенные веки, Пито и сам не знал, сердиться ли ему на нее или пожалеть… Но боязнь ухудшить положение грубым обращением пересилила, и он стал говорить мягко, ласково: