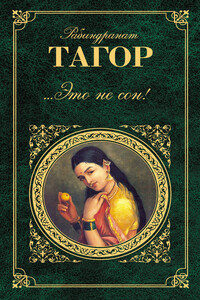Тетрадь 1
День, когда Норма меня бросила
Как-то раз дождливым вечером в январе семьдесят пятого года, придя домой в непривычное время, я застал мою жену в постели с незнакомым мужчиной. Первое, что я увидел, открывая дверь в спальню, — себя самого, открывающего дверь в спальню. По сей день, спустя вот уже десять лет, когда я стал лишь жалкой тенью того, кем был прежде, каждый раз при входе в спальню я вижу это зеркало, которое неизменно встречает меня все тем же мерцающим воплощением отчаяния, призраком катастрофы, превратившей меня в развалину: передо мной человек, насквозь вымокший под дождем, ослепленный ревностью; человек на пороге своего падения и распада, у которого не осталось ничего, даже остатков самоуважения.
Чтобы сохранить память о том дне, разбережу еще раз мою незаживающую рану и опишу в этой тетради события того вечера. Маленькая, уютная спальня. Низкая кровать со сбитыми простынями. И мое отражение в зеркале напротив входа. Норма поспешно прячется в ванную комнату, закрывая дверь изнутри. Потом я замечаю баночку с гуталином на сером паласе и полуголого типа, который сидит на краю кровати и ловко обрабатывает щеткой пару моих лучших башмаков. На нем нет ничего, кроме поношенного форменного жилета чистильщика обуви. У него крепкие волосатые ноги. Глубокие морщины на лице.
— Какого черта вам дались мои ботинки? — задаю ему нелепый вопрос.
Он не знает, что сказать. Бормочет с сильным андалусским акцентом:
— Вы ж сами видите...
По правде говоря, я тоже не знаю, как себя вести в такой ситуации.
— Слушайте, это возмутительно. Это черт знает что.
— Да, да, конечно...
— Вы спятили... Да вы просто идиот...
Стоя у кровати в набежавшей с одежды лужице дождевой воды, я разглядываю незнакомца, который продолжает надраивать мои башмаки, и спрашиваю:
— Ну и что теперь?
—Такая тоска, знаете, смертная, вот я и говорю себе: ботинки, что ли, почистить...
— Представляю.
— Я ведь чистильщик обуви. К вашим услугам.
— Да, да.
— Ладно, я пойду.
— Нет, нет, не уходите, останьтесь, пожалуйста.
— Не надо только сильно расстраиваться, — советует он мне сочувственно. — Вы ведь муж сеньоры Нормы, так я думаю...
Чтобы чем-то заполнить паузу, он продолжает машинально надраивать башмак. Со стороны кажется, что это нелепое занятие поглотило его с головой.
— Я спокоен, — говорю я себе. — Все хорошо.
— Я очень рад.
— Может, отложите башмак?
— По мне, главное — чтобы обувь блестела, понимаете? Но лучше я пойду, честное слово.
Мысль о том, что я останусь с Нормой наедине, ужасает меня. Я уже знаю, что потерял ее.
— Подождите немного. На улице ливень.
Смущаясь, он натягивает кальсоны. На мгновение вижу его член, свисающий между ног. Темный, здоровенный. Он поспешно надевает брюки и ищет на полу носки. С его грубого, животного лица еще не сошло выражение испуга; роль случайного любовника хозяйки, застуканного ее мужем, ему явно не по нутру. Меня совсем не удивляет, что это простой трудяга, чистильщик обуви, смахивающий на пастуха, скорее всего, безграмотный, которого она подцепила где-нибудь в баре на Рамбле. Когда я впервые заподозрил, что Норма меня обманывает, я подумал, что это Эудальд Рибас или еще какой-нибудь пижон из рафинированного общества, в котором она вращалась. Но вскоре обнаружилось, что ее слабость — андалусийцы со смуглой кожей и крепкими зубами. Самые разнообразные чарнего[1] всех сортов. Таксисты, официанты, певцы и гитаристы с длинными ногтями и кошачьими глазами. Андалусийцы, пропахшие табаком, потом, грязными носками и крепким вином. Красавцы, конечно, что правда, то правда. Однако этого трудно было назвать неотразимым, да и молодым тоже. Лет сорока, смуглый, с крючковатым носом, кучерявыми волосами и длинными бакенбардами. Самый затрапезный чарнего, который к тому же боится посмотреть мне в глаза.
Я по-прежнему не знаю, как быть.
— Что б тебе, — шепчу я задумчиво по-каталонски, глядя в пол. — Что же теперь делать?