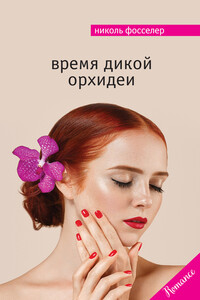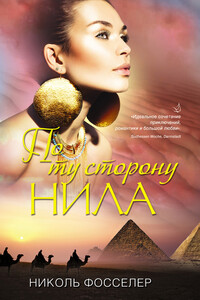Это было, как во сне. Исполнилась ее самая большая мечта, слишком огромная, чтобы она могла собраться с мыслями.
Люди уже запрудили весь ее путь в город.
— Аллах да пребудет с вами и вашими детьми и да благословит всех хорошим здоровьем!
— Аллах да благословит вас, Биби Салме!
— Ты видишь, видишь, это и взаправду Биби, она долго жила на чужбине, а вот теперь вернулась домой!
Матери сажали маленьких детей себе на плечи, чтобы те поверх моря голов смогли увидеть Биби Салме. Ту Биби Салме, историю жизни которой на Занзибаре рассказывали, как сказку. Слуги толпились вокруг нее и вытаскивали из-под шапочек на бритой голове сложенные записочки и тайком совали их ей прямо в руки: послания от старых друзей или дальних родственников султанской семьи, которые надеялись, что Эмили нанесет им визит, и, возможно, султан о том не узнает. Иногда массивная дверь — с искусным резным узором или с красивым узором из шляпок латунных гвоздей — была слегка приоткрыта, и Эмили словно бы различала шепот из этой щелки. Как будто в этих домах только и ждали, что она вот-вот постучит и войдет, и ей можно будет предложить кофе с печеньем.
Очень странно было снова оказаться здесь. С высоко поднятой головой и с открытым лицом идти по улицам и переулкам, по которым раньше ей было позволено ходить только закутанной с головы до ног и ночью. А теперь на ней было узкое платье, зашнурованное до талии, которое в память о Генрихе все еще было черным, маленькая шляпа с широкими полями от солнца.
Ее внешность контрастировала с ее окружением, подчеркнутым постоянным присутствием вооруженного офицера.
Она чувствовала какое-то несоответствие. Как будто она стала инородным телом в переулках своей прежней жизни.
Это было странное возвращение.
Каждый вечер до темноты Эмили и дети обязаны были по предписанию адмирала возвращаться на борт «Адлера» и проводить ночь там. Только днем Эмили могла съезжать на берег и гулять там по улицам и переулкам, которые любила, и все-таки они уже не были такими, как прежде.
— Покажи нам дом, в котором ты раньше жила, — попросила Тони в один из таких дней.
— О, да, — ликуя воскликнула Роза. — Дом, о котором ты нам рассказывала! Где ты познакомилась с папой!
Эмили медлила. Именно эту часть города она в своих блужданиях сознательно избегала. Она страшилась того, что может найти там сегодня, а еще больше — воспоминаний о Генрихе.
— Прошу тебя, мама, — поддержал сестер Саид. — Мне тоже хотелось бы увидеть тот дом!
Она еще помнила дорогу и нашла бы дом даже во сне, хотя и сомневалась на каждом углу, не обманывает ли ее инстинкт. И вот она остановилась в каком-то переулке и с удивлением огляделась.
— Это должно быть здесь, — пробормотала она и принялась внимательно осматривать фасады зданий. — По крайней мере, вот эта часть. — Она указала на нижний этаж дома, откуда, с затаенным интересом поглядывая на необычное семейство, входили и выходили светлокожие белокурые мужчины в светлых костюмах и занзибарские посыльные.
— Самого верхнего этажа тогда не было. — С тяжелым сердцем Эмили обнаружила, что терраса на крыше, где она провела столько ночей — сначала в одиночестве и очень несчастная после продажи Бубубу; а потом — чудесных, наполненных сердечностью и любовью — с Генрихом, терраса эта вся была перестроена. Как будто судьба стремилась стереть все следы того, что тогда произошло и что вызвало такие непредсказуемые последствия. Все следы ее жизни, унесенные временем.
— А вот там, — голос ее дрожал, как и рука, которой она указывала на соседний дом, — видите окно? Там стоял ваш отец, когда я увидела его впервые. А потом он часто сидел вон там, на крыше.
«Добрый вечер, соседка!» — услышала она откуда-то издалека голос Генриха… Грусть и печаль наполнили ее душу. Прошлое представилось ей нереальным.
Неужели все так и было?..
Она помнила каждую мельчайшую подробность, каждый звук, каждый аромат, каждый взгляд. И все же все было как давний сон. Их жизнь в Гамбурге казалась ей более реальной, настоящей, понятной.
Дети почувствовали, как мать взбудоражена, и притихли, бросая на нее взгляды — то озабоченные, то полные любви и душевности. А когда они шли назад, каждый норовил обнять ее, коснуться незначительным ласковым жестом.