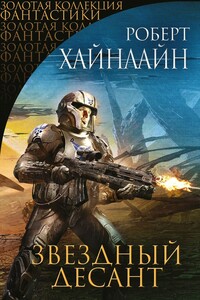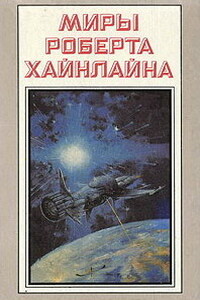Автоматы, заменявшие нам более современное оружие, были заряжены холостыми патронами. И только один из пятисот был настоящим, боевым. Опасно? И да, и нет. При нашей профессии вообще опасно жить... А пуля, если она не разрывная, вряд ли сможет убить, разве что попадет в голову или в сердце, да и тогда вряд ли. Зато одна настоящая штучка на пятьсот холостых делала игру интересней и азартней. Тем более, мы знали: такие же автоматы находятся в руках у инструкторов, которые не упустят случая и не промахнутся. Они, конечно, утверждали, что никогда намеренно не целятся человеку в голову, но все же иногда такие вещи случались.
И вообще - никакие уверения не могли быть стопроцентной гарантией. Каждая пятисотая пуля превращала занятия в подобие гигантской русской рулетки. Ты сразу переставал скучать, когда слышал, как, тонко свистнув, проносится мимо твоего уха смертоносная гадина, а потом ее догоняет треск автомата.
Но время шло - и мы постепенно расслабились, азарт пропал. Тут нам передали послание начальства: если не подтянемся, не соберемся, настоящая пуля будет вкладываться в каждую сотню холостых... А если и это не сработает, пропорция окажется один к пятидесяти. Не знаю, изменили что-то или нет, но мы определенно подтянулись. Особенно когда ранили парня из соседней роты: настоящая пуля задела ягодицы. Естественно, на некоторое время он стал объектом нескончаемых шуток, а также предметом подлинного интереса: многим хотелось посмотреть и потрогать причудливо извивающийся шрам... Однако все мы знали, что пуля вполне могла попасть ему в голову. Или в голову одного из нас.
Те инструкторы, которые не занимались стрельбой из автомата, на учениях почти не прятались. Они надевали белые рубашки и ходили, где вздумается, со своими жезлами. Весь их вид говорил об абсолютной уверенности в отсутствии преступных намерений у новобранцев. На мой взгляд, они все-таки злоупотребляли доверием к нам. Но так или иначе шансы распределялись в пропорции один к пятистам, к тому же бралось в расчет наше неумение стрелять. Автомат не такое уж легкое оружие. Он не рассчитан на точное поражение цели. Вполне понятно, что в те времена, когда судьба боя зависела от этого оружия, необходимо было выпустить несколько тысяч пуль, чтобы убить одного человека. Это кажется невозможным, но подтверждается всей военной историей: подавляющее большинство выстрелов из автоматического оружия было рассчитано не на поражение противника, а на то, чтобы он не поднимал головы и не стрелял.
Во всяком случае, при мне ни одного инструктора не ранило и не убило. Так же, впрочем, как и ни одного из нас. Новобранцы гибли от других видов оружия и вообще по другим причинам. Например, один парень сломал себе шею, когда по нему выстрелили первый раз. Он постарался укрыться, однако сделал это слишком поспешно. Ни одна пуля его так и не задела.
Надо сказать, что именно это стремление новобранцев укрыться от автоматного огня отбросило меня на низшую ступень в лагере Курье. Для начала я потерял те самые шевроны капрала-новобранца, но не за собственные проступки, а за действия моей группы, когда меня даже и рядом не было. Я пытался возражать, но Бронски посоветовал мне умолкнуть. Я, однако, не успокоился и пошел к Зиму. Зим холодно заметил, что я отвечаю за все действия моих людей независимо от... и дал мне шесть часов нарядов вне очереди за то, что я разговаривал с ним без разрешения Бронски. Тут еще пришло письмо от мамы, сильно меня расстроившее. Затем я рассадил себе плечо, когда в первый раз пробовал боевой бронескафандр. Оказалось, что у них имеются специальные скафандры, в которых инструктор с помощью радиоконтроля может устраивать всякие неполадки. Я свалился и разбил плечо. В результате меня перевели на щадящий режим.
В один из дней "щадящего режима" я был прикомандирован к штабу командира батальона. Поначалу я, оказавшись здесь впервые, изо всех сил старался произвести выгодное впечатление. Однако быстро понял, что капитан Франкель не любит суеты и излишнего усердия. Он хотел только, чтобы я сидел тихо, не произносил ни слова и не мешал. Так у меня появилось свободное время, и я сидел, сочувствуя самому себе, так как надежд на то, что можно будет поспать, не предвиделось.
![Дверь в лето [с рисунками]](/uploads/books/images/59/5965868f2aa07a4770f495ff4e641b80d589f93c.jpg)