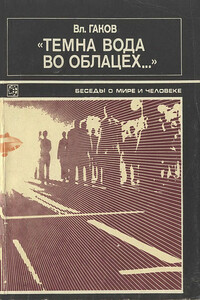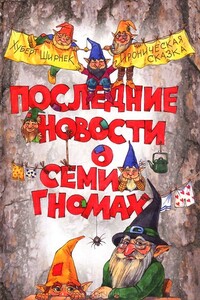Звери = боги = люди - страница 9
При всей близости взглядов Л. Леви-Брюля к современному пониманию особенностей духовного мира людей на первых этапах социогенеза все же следует сделать некоторые оговорки. Прежде всего думаю, что правильнее было бы говорить не о первобытном мышлении, а об архаическом сознании, так как сознание выступает в качестве более общего понятия, включающего и мышление, и восприятие, и ощущение при отражении объективной реальности, и чувственную реакцию на них как индивидов, так и их коллективов. Именно в этом смысле об архаическом сознании можно говорить как об историческом типе общественного сознания. Само же понятие «архаичный» более точно передает стадиальную характеристику этого этапа, чем «первобытный» или «примитивный», поскольку не заостряет вопрос о существовании более ранних типологических форм и в то же время подчеркивает историческую глубину и качественное соответствие встречаемых и ныне явлений, восходящих к древности.
Таким образом, кажется неправомерным признание архаического сознания (первобытного мышления, по Л. Леви-Брюлю) мистическим или основанным на сверхъестественном. Тут, как мне кажется, кроется внутренняя противоречивость и непоследовательность исследователя при проведении необходимого в данном случае принципа учета относительности ценностных систем при сопоставлении образцов архаического и современного сознания. В действительности то, что сверхъестественно для «нас», естественно для «них», и наоборот. Проблема, вероятно, в другом.
Уместно привести пример из моей собственной полевой этнографической практики, который созвучен позиции Л. Леви-Брюля и, может быть, мог бы даже рассматриваться как аргумент в его пользу, но… Но для меня он ценен не только тем, что пережит мной лично, но и свидетельствует, что «мистицизм», «сверхъестественность» мы сами зачастую привносим, если хотим их видеть (или иначе не умеем) в чем-то непонятном, не вписывающемся в привычные схемы.
В ноябре 1973 года я был в Бамако. В аэропорту случайно разговорился со служащим Беди Кейта, мужчиной около 30 лет, с европейским образованием и манерами. Вначале речь шла о банальных вещах, но по ходу разговора были затронуты сюжеты, связанные с традиционной культурой местного населения, прежде всего бамбара. Поощряя мой интерес и кое-какие познания, Беди постепенно, помимо исторической тематики, начал касаться и мировоззренческой, утоляя тем самым мое разыгрывающееся любопытство. Он заговорил о необыкновенных способностях и познаниях своих соотечественников, в частности о способности вызывать дождь и останавливать его на каком-то ограниченном участке. Он говорил также о способе «транспортировки» человека, умершего вдали от родной деревни и добирающегося (мертвым) до места погребения «своим ходом». Он упоминал о выстрелах из незаряженного ружья, о хлопчатобумажных рубахах, которые не берут ни пули, ни нож, ни стрела. А я думал о мистификации, о фокусах, о массовом гипнозе. Наконец, он предложил мне на час отлучиться из Бамако и побывать в Москве (более 7000 километров по прямой) или в любом другом городе Советского Союза, у себя дома. Я вежливо поблагодарил. Но что-то в этом предложении, в самом тоне разговора было непонятное. Я пытался уловить, что это — розыгрыш, шутка или сознательное создание у меня ощущения соприкосновения с чем-то непостижимым? С какой целью? Я как-то вдруг не столько осмыслил, сколько ощутил, что за этим безукоризненным костюмом и манерами, за вполне совершенным французским языком (в той части разговора, когда беседа шла на нем) есть что-то другое, невысказанное, только едва затрагиваемое всплывающими сюжетами и проявляющееся в полной серьезности и усиливающемся по мере развития темы отстраненном наблюдении за мной со стороны собеседника.