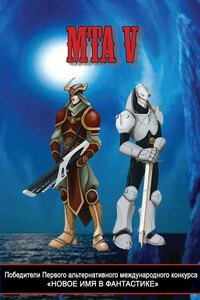— Отлично, я согласен, — сказал он. — Надеюсь, Костя не откажется принять наше приглашение на завтрашний праздничный ужин, посвящённый новорожденному. Нет? — Он испытующе посмотрел на юношу.
— Нет, не откажусь.
— А твоя бабушка не разобидится, если мы её не позовем?
— Надеюсь, не разобидится, — сказал Костя. — Да что там — уверен. Баба Оня — свой человек!
— Прекрасно! — Никита от избытка чувств пристукнул ладонью по столу. — Катерина, начинай подготовку.
Девушка тут же скрылась в доме, подарив Косте на прощание ясный взгляд.
— Держи, — сказал Никита, извлекая из выдвижного ящика стола несколько бумажных листов, скреплённых стежком ниток. — Честное слово, я очень старался.
— "Фуэте очаровательной наивности", — прочитал Костя вслух. — "Наивности"!… Вот оно, значится, как!
— Только не гневайся сразу по своему обыкновению и не убегай, пожалуйста.
— Не убегу. Послушай, Никита, а о чем вы с дядей Тёмой повздорили?
— Это с которым? С приударенным мотоциклистом-оккультистом, что ли? Да ты не поверишь. Он заявил, что мы с Катюшей явные носители тёмного начала, приближатели конца света и вообще — не божьи твари, но аспиды и порождения ехидны. И надо бы нам мотать отседова подобру-поздорову, а не то!… Солнышко родимому головку напекло, не иначе. Основания, знаешь, какие?…
— Догадываюсь, — посмеиваясь, сказал Костя. — Фамилия ваша нёсет для здешних жителей глубокие негативные ассоциации. Что усугубляется недобрым местом проживания, на редкость непристойным по тутошним меркам поведением и… — Костя скосил понимающий взгляд на длинные пальцы Никиты, ловко набивающие папиросную гильзу, причём определенно не табаком, — …и курением некой ароматной травки.
— Точно, дорогой Ватсон! Ты только забыл назвать самое страшное преступление: соблазнение одного из малых сих, — произнёс с усмешкой Никита, предлагая Косте только что раскуренную цигарку.
— Меня? — Костя неумело, но решительно вдохнул ядовитый дым, его передернуло и чуточку затошнило. Он вернул «косяк» Никите.
— Снова в точку.
— Ты ему сумел что-нибудь возразить?
— Даже не пытался. Я принял вид угрюмый, задумчивый, и с выражением продекламировал несколько строчек из одного своего юношеского творения: "Мы — как части механизма, как жнецы сухой стерни. Прозелиты экзорцизма, прорицатели херни. Мы — апостолы без веры, пианисты без руки. Вроде, с виду — кавалеры, а на деле — варнаки. Каждый — рекрут интеллекта, недодьявол, недобог. Каждый — церковь, каждый — секта, вялый член меж слабых ног…" — А дальше он и слушать не стал.
— Ещё бы! Здорово же он, наверное, разозлился. Нет, спасибо, — Костя мотнул головой и отгородился от «косяка» ладонью. — Я больше не хочу.
— А то! Чуть в клочки не лопнул. Представляешь, как нас с Катькой кипящей желчью забрызгало бы!
Они дружно расхохотались.
По веранде стлался сладковатый дым.
Обнажённая девушка полулежала в воде, дерзко открыв небольшую, красиво очерченную грудь нечаянному зрителю. На лицо её падали волосы, но сквозь светлые пряди проглядывали Катины черты. Вместо ног крутой дугой изгибался дельфиний хвост, на плече сидела, расправив длинные маховые плавники и выпучив огромные фасеточные глаза, фантастическая летучая рыба. Прозрачная акварель едва-едва смочила бумагу, от этого картина казалась бледноватой, но так только казалось. На самом деле она лучилась, жила. Она источала нетерпение, жажду продолжить стремительный русалочий полет, остановленный властной рукой художника.
Костя был счастлив. Он провёл пальцами в миллиметре от ещё влажной бумаги, почти ощутив тепло девичьего тела, и шепнул: "В день, когда ты сбросишь хвост, я буду ждать тебя здесь, в этой комнате, на этой постели… Ты не скажешь ни слова. Но слова не будут нам нужны".
Ходики звонко щёлкнули дверцей кукушечьего дупла, скрежеща зубчатками, прокуковали дважды.
Он погасил лампу, лёг, чувствуя, что не сможет заснуть всё равно. В животе, тяготея к паховым областям, ворочалась что-то прохладное и щекотное, отчего волоски на теле вставали торчком. Он укрылся одеялом с головой, свернулся в клубочек. Старательно выдыхал воздух ртом, стараясь направить тёплый поток на грудь. Надеялся согреться. Но холод был внутри, и застуженный им выдох — не согревал.