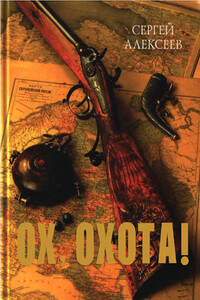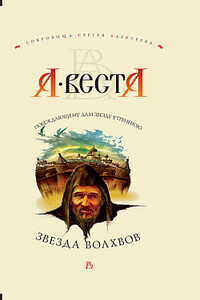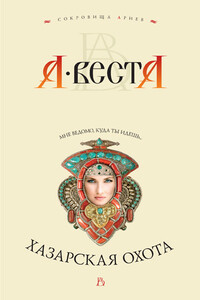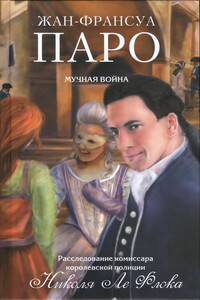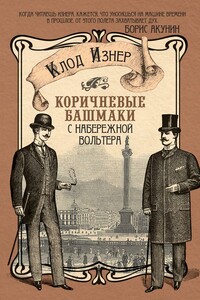Румяной снегириной стайкой мелькнули новогодние праздники. Ни Алексей, ни Сашка не знали, когда наступил Новый год, Рождество, но каждый день добавлял света. Только на Крещение они опамятовали. Сашка хозяйничала в избушке, превратившись в очаровательную барышню-крестьянку. И Алексей вдруг расцвел, словно кто-то плеснул в него живой водой и веселой силой. Глаза, прежде глубокие, тихие, с затаенной горечью, теперь смотрели с игривой и грозной лаской, едва он задевал взглядом Сашку. За эту зиму он стал крепче и шире в кости, словно добрал недоданную силу, и если появлялся в Ярыни на своих лесничьих розвальнях, то, как и положено деревенскому ухарю, стоя правил белой невысокой, но откормленной кобылкой. Да так лихо, что на перестук копыт и гиканье сбегалось все свободное на этот час женское население, завистливо провожая глазами молодого лесничего.
На Крещение Сашка затеяла купание в проруби. Солнце уже спряталось за лес, и ясный закат разлился в половину неба. В проруби дробился ранний месяц, тонкой паутинкой плавал лед. Сашка мялась, не решаясь раздеться на морозе.
— Знаешь, я слышала, что в крещенскую ночь небеса раскрываются и ангелы слышат наши желания. — Она посмотрела в ясную вечернюю синеву.
— Мне больше нечего желать, — сказал Алексей.
Он разделся и стоял босиком на твердом ледяном припае.
— Я счастлив и, пожалуй, просил бы только одного, чтобы ничего не менялось в моей и твоей жизни: ты, этот лес, река, небо, и звезды.
Мороз покусывал пятки, когда бежали они с обрыва к темной, выдолбленной крестом полынье.
В первую секунду вода обожгла, сдавила тело, и потешно барахтаясь и повизгивая, как щенок, Сашка едва не порезалась колкими льдинками. Алексей помог ей выбраться.
— Ух здорово! — едва выдохнула она. Все занялось в ней пожаром, и, позабыв себя, она понеслась по хрупкому снежку. С разбегу прыгнула в сугроб и уж потом обтерлась, и вся жаркая, полыхающая, не чувствуя морозца, оделась.
Алексей неловко уцепившись за ледяной край выбрался из проруби. Сашка, раззадоренная купанием, принялась его обтирать.
— Эй, поосторожнее, — шутливо прикрикнул он.
Этот крещенский сочельник был их последним счастливым днем.
— А ты, Саша, о чем бы попросила? — спросил он с внезапной тревогой.
— Знаешь, Алеша, мне иногда кажется, что мы, люди, разучились видеть и понимать природу, мир и самих себя. Мы, как стрекозы, видим только осколки изображения. А из этих клочков не сложить картины. Я бы хотела открыть эту целую картину, и, только не смейся, это очень серьезно: спасти Россию. Да я знаю, что это наивно, но я не могу всю жизнь скрываться в лесах, пока…
— Что «пока»? — вдруг резко вскипел Алексей, как бывало с ним при накатах «черной вспышки». — Что ты знаешь? А я был там, где добро и зло много раз менялись местами. Я видел в воронках трупы вчерашних врагов, перемешанные друг с другом и с землей. Все зашло слишком далеко, и в одиночку не остановить зло, а надеяться нам не на кого. Ты пойми, мы ничего не можем. Мы брошены на заклание. Виноваты ли мы? Да наверное… Но Саша, Сашенька, мы с тобой можем любить друг друга так, как никто еще не любил. Мы можем построить дом, беречь этот лес, хранить реку, мы можем родить ребенка и вырастить его чистым, красивым человеком…
— Чтобы его сделали рабом? Зомби? Ты надеешься отсидеться в глуши? Переждать зиму, как муравей? Твое лето никогда не наступит!
Он сдернул с гвоздя ватник, уронил, и пока поднимал и надевал, из кармана на тканый половичок выпала карта. Та, что лежала возле ее пустой заледенелой могилы.
Сашка молча подняла карту, поднесла к лампе.
— Варлок! Это он! Где ты взял ее?
— Нашел в лесу. Недалеко от того места…
— Он соврал… Бинкин соврал мне, что это сделали чеченцы… — Сашка скомкала карту и бросила ее на догоревшие угли.
— Расскажи мне все, Сашенька…
— Мне нечего рассказывать. Это все задумал он, Варлок, это он отдал мое тело псам. Все было разыграно… Остров Огненный… задание… Варлок все знал. Он приказал, чтобы именно меня отправили в колонию к смертникам.
Сашка судорожно глотнула воды из ковшика.
— Но откуда он мог знать, что именно там след чаши?