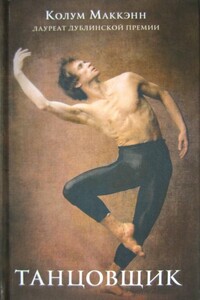Золи верила в существование родника жизни, который доходит до центра земли. Вода в нем движется в обоих направлениях, но большей частью поднимается от родника ее детства. Об этом она говорила со своим просторечным акцентом — о днях скитаний с дедом, о дорогах, которые они проехали вместе, о том, как молчали вдвоем. Говоря о нем, она натягивала платок, закрывавший лоб от переносицы. Золи не думала, что ее можно счесть хоть сколько-нибудь красивой: она помечена «ленивым веком»[17], к тому же у нее слишком смуглая, слишком цыганская кожа. Но в эти несколько дней мне казалось, что луна сошла на землю. Я не сомневался, что рано или поздно нас застанут вместе, что все узнают, или Конка догадается, или нас увидят дети, или Фьодор, или Вашенго. Мы прекрасно понимали, что оба потонем в разбушевавшемся половодье, но это не имело значения.
Однажды вечером Золи услышала уханье совы, замерла в ужасе, закрыла ладонью глаза и пробормотала, что дух дедушки вернулся. Ее охватил стыд.
— Нельзя этого делать, — сказала она, отступила от меня, и замерзшие листья захрустели у нее под ногами.
Поезд, который вез меня в город, был странно старомодным, с коричневыми панелями. Ветер задувал в разбитые окна.
— Они привяжут тебе яйца к шее и затянут узлом. Так и будут болтаться, как головка чеснока, — посулил Странский.
— Мы ничего не сделали. Кроме того, она никому не скажет.
— Оба вы наивные дураки.
— Это больше не повторится.
— Не трогай ее, говорю тебе. Они тебя саваном накроют. Она же цыганка. И должна принадлежать цыгану.
— Поэтому мы и печатаем ее стихи?
Он поднял воротник и сел за работу. Я вздохнул с облегчением, сбежав из типографии, от Странского и его навязчивых мыслей, в город, где можно было затеряться под уличными фонарями. Теперь он редко называл меня «сынком», но в эти несколько месяцев я как будто стал выше ростом — я дышал ею, она наполняла меня.
Осенью 1953 года мы выпустили первую книжку стихов Золи. Ее тепло приняли все: молодые поэты, литературоведы и даже бюрократы. По непостижимым для меня причинам Золи хотела, чтобы страницы были сшиты, а не склеены: клей каким-то образом напоминал ей о лошади, которую она когда-то знала.
Теперь предстояла работа над более полной подборкой стихов. Счастливый, я сидел на улице возле своего дома на перевернутом ведре и наблюдал восход солнца между старыми зданиями.
Где-то все еще хранится фотография, запечатлевшая нас троих — Странского, Золи и меня — серым днем в Парке культуры на берегу Дуная. Вода подернута рябью. На Золи длинная развевающаяся юбка и потертая короткая курточка. На снимке видно, что мы с ней одного роста. Я, в белой рубашке и в берете набекрень, поставил ногу на швартовую тумбу. Между нами стоит Странский, одетый в темный костюм с черным галстуком. Я обнимаю его за плечи. Странский уже совсем облысел, и у него небольшой животик, который Золи называет котелком. На заднем плане — грузовое судно с огромной надписью на борту: «Вся власть Советам!».
Даже сейчас я могу шагнуть к этой фотографии, пройти по ее краю, забраться в нее и в точности вспомнить, как был взбудоражен, фотографируясь с Золи.
— Пожалуйста, не смотрите на меня, — говорила она, оказываясь в свете прожектора, но некоторым казалось, что у нее развилась зависимость от микрофона.
Однажды, в городке Прьевидза, ее пригласили во Дворец культуры. Огромный двор, на который выходил задний фасад здания, несколько часов был заполнен цыганами из разных мест. Они ждали. Золи выступала наверху, в зале с потолком, украшенным лепными карнизами. По мере того как собирались жители деревни, цыгане, расположившиеся и в зале тоже, вставали, кланялись и уступали свои места, пересаживаясь в задние ряды. Бюрократы сидели в первом ряду, семьи здешних милиционеров — в следующем. Я не вполне понимал, что происходит. Казалось, чиновникам приказали явиться на концерт в рамках политики вовлечения цыган в общественную жизнь. Зал заполнился, и вскоре в нем остались лишь двое старейшин. Я думал, они начнут ссориться или спорить, но они охотно уступили свои места и вышли во двор.