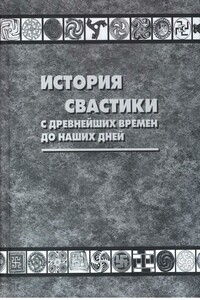Слова, изменяя своему прямому назначению, начинали лгать: «Министерство правды» занималось фальсификацией истории, а каторжный лагерь назывался «лагерем радости». Слова без конца сращивались друг с другом до состояния аббревиатур, что совсем не характерно для «старого» английского, зато очень популярно в немецком и русском-советском. Грамматика упрощалась предельно, чтобы хоть какую-то мысль, тем более — разветвленную, поместить в оставшиеся конструкции было невозможно. На радость школьникам все похожие слова изменялись по родам-числам-падежам одинаково, и из любого слова легко образовывалось любое другое.
Плакаты А.Родченко, 1923 год
Все это, конечно, утопия, пусть и «анти»; но Оруэлл не зря при написании романа изучал опыт пропаганды в фашистской Германии и в СССР: ему удалось нащупать самые болевые точки языка, воздействуя на которые, можно обуздать способность человека не просто к самостоятельному мышлению, но и к полноценному мышлению вообще. Такое активное целенаправленное воздействие на язык у нас началось в 30-е годы и продолжалось до конца советской власти. (В Google 11 400 ответов на запрос «советский новояз».) При этом советский народ остался в глубоком убеждении, что он — продолжатель великой русской культуры, ее носитель и хранитель, и что он может говорить (при случае) на великом языке этой культуры. Как раз печальная судьба русской классической литературы в советской школе может служить великолепной иллюстрацией того, что при соответствующей обработке никакое богатство мировой и национальной культуры не спасет последующие поколения от заточенного под определенным углом недомыслия. В Интернете выложена книга Корнея Чуковского «Живой, как жизнь» (http://vivovoco.rsl.ru), отдельная глава которой посвящена технике и практике оскопления литературы с помощью школьных учебников и сочинений; можете также посмотреть, как эту тему убийственно остроумно развивает представитель более позднего поколения директор Института лингвистики РГГУ Максим Кронгауз (http://magazines. russ.ru/nz/).
Советский новояз состоял из чудовищной смеси гремучей идеологической лозунговости и суконного канцелярита, владеть которым учили в школе (по популярности в Интернете тема канцелярита почти не уступает «советскому новоязу»: 13 800 ссылок в Google). В этом была практическая необходимость, ибо справки, заявления, анкеты, формализованные автобиографии составляли основной вид рукописного творчества советского человека. Этими следами эпохи забиты архивы, и это действительно лицо эпохи. Сам язык унаследован от дореволюционного чиновного слога — над ним и в позапрошлом веке смеялись.
Все же чиновный язык не составлял лица дореволюционной эпохи, поскольку сосуществовал рядом с литературным, с фольклором и регионализмами, с жаргонами и профессиональными языками. Но самое главное — никому не приходило в голову принимать чиновный канцелярит за язык культуры.
Неграмотные, потом долгое время полуграмотные бывшие крестьяне были уверены, что язык пропаганды, изливавшийся на них сплошным потоком из радиоприемников и со страниц газет, и уважаемый ими письменный язык документов и есть язык культуры. Все, кто хотел продвинуться в этой новой городской жизни или хотя бы уничтожить следы своего деревенского происхождения — как следы принадлежности к низшей касте, терпеливо осваивали этот язык. Так терпеливо и настойчиво, что он прирастал к ним. Их детей обучали этому же языку как главному: языку политической лояльности, к демонстрации которой сводилась практически вся сфера публичного словоговорения.
Что спасло советский народ от окончательной деградации в духе Оруэлла? Многие филологи и лингвисты считают, что спасением стала «диглоссия» — многоязычие внутри одного языка. Язык идеологии и пропаганды так и не смог вытеснить все остальное и остаться единственным на практике, и нашей, и Третьего рейха. Люди продолжали работать, есть, ездить в транспорте, влюбляться, заводить семьи, и все это были реальности, для которых язык газетных передовиц оказывался недостаточно пригодным. И хотя взрослый дядя в книге Чуковского заботливо спрашивал у плачущей девочки: «Ты по какому вопросу плачешь?», хотя героиня «Пяти вечеров» Володина признается в любви словами отчета о трудовых успехах, рядом жили другие языки: жаргон улиц, повседневное просторечие, экспрессивный мат, профессиональные языки.