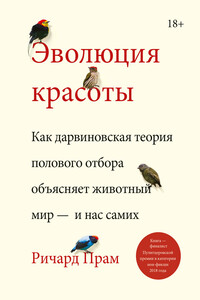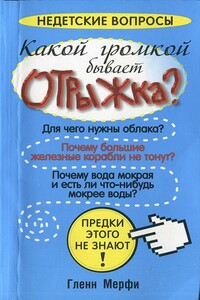И наконец, не осознавал этот разрыв первый заместитель Главного конструктора (Ю. Б. Харитона) - трижды Герой Соцтруда К. И. Щелкин. По свидетельству его сына, Щелкин считал, что «в создание [первой советской] водородной бомбы было вложено столько оригинальных <...> идей, что они не могли одновременно прийти в головы ученых США. Однако после взрыва нашей бомбы [в августе 1953 года] США столь быстро [полгода спустя] взорвали аналогичную [испытание 1 марта 1954]), что даже если учесть, что они по анализу проб воздуха после нашего взрыва смогли разгадать секреты конструкции, невозможно было в эти сроки разработать и изготовить образец для испытаний. <...> Отец был абсолютно уверен, что конструкция нашей водородной бомбы ими [американцами] украдена. Эта уверенность, по его словам, опиралась прежде всего на гениальность Сахарова».
Отсюда ясно, что даже руководители советского ядерного проекта не имели представления о разрыве в мощностях первой советской термоядерной бомбы и американской.
Не успел я осознать очередную хитрость термоядерной истории, как ко мне обратился один американский термоядерный ветеран, тоже активно интересующийся историей. Он с гордостью поделился добытой им исторической сенсацией. Добыл он ее от двух ветеранов Курчатовского института, которые якобы слышали ее от И.К.Кикоина. Звучала эта сенсационная история примерно так:
«В 1952 году советские физики-бомбоделы знали, что в США ведутся работы по водородной бомбе и готовится испытание в Тихом океане. В ожидании этого испытания И.К. Кикоин сделал особый акустический датчик, чтобы зафиксировать испытательный взрыв, и установил этот датчик в режиме ожидания в своей лаборатории в Курчатовском институте. Вечером 31 октября датчик зафиксировал сильный сигнал, а утром 1 ноября получил второй - более слабый - сигнал, пришедший с другой стороны земного шара. По запаздыванию и величине сигнала Кикоин оценил мощность взрыва и сообщил об этом событии прямо министру Славскому, который довел информацию до Сталина. Так Сталин еще в ноябре 1952 года узнал, что американцы далеко опередили советских ядерных оружейников и что, стало быть, Берия не так уж хорошо руководит порученным ему делом. Озабоченный неминуемыми оргвыводами, Берия обеспечил советскому вождю безвременную смерть».
Услышав эту историю и признав ее кинематографический потенциал, я сразу же обнаружил первую неувязочку: в 1952 году Славский не был еще министром. Наведя справки, обнаружил, что и ветераны-источники пришли в Курчатовский институт существенно позже 1952 года. Но главная неувязка была гуманитарного, так сказать, характера.
Дело в том, что в начале 1980-х годов мне довелось обстоятельно побеседовать с Исааком Константиновичем Кикоиным. Говорили мы о событиях далеких 30-х годов, о Ленинградском физтехе и о человеке, который навсегда остался в 30-х годах, а меня интересовал больше всех (в чем читатели этого журнала могли убедиться не раз). Это - Матвей Петрович Бронштейн (1906-1938), тогдашний коллега Кикоина. Начал я с простого вопроса: почему серия «Библиотечка Квант», главным редактором которой был академик Кикоин, в качестве первого выпуска переиздала книгу Бронштейна аж 1935 года «Атомы и электроны».
Исаак Константинович сказал, что это был совершенно сознательный выбор - он хотел, чтобы первый выпуск стал образцом в нескольких смыслах: книжка написана активно работающим физиком-профессионалом, написана увлекательно, «детективно», автор не боялся высказывать мнение о совсем недавних событиях, о нерешенных проблемах. А затем, к моей радости и, похоже, к его собственному удовольствию, он стал делиться воспоминаниями о замечательном человеке и о событиях - веселых, диковинных и интересных - в тогдашней жизни физики и физиков. Беседа наша длилась довольно долго, и в результате, помимо нового понимания физики 30-х годов, у меня осталось вполне определенное впечатление о личности рассказчика - мудрой, сильной и благородной.
С таким Кикоиным, как и с моим пониманием его отношений с Курчатовым, никак не вязалось поведение «Кикоина» из сенсационной истории.