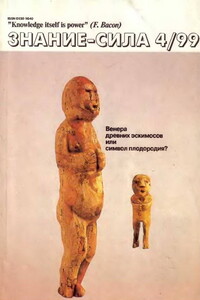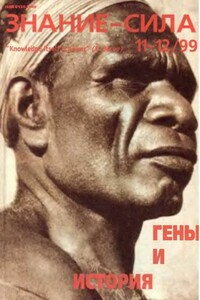«Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. Но где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь, Господь, который создал небо и землю?»
Что касается стиля этого воззвания, чуждого и даже враждебного нашей науке, то для Августина он столь же органичен, сколь и методически осознан. «Бездна призывает бездну, человек человека». «И только тогда бездна полезна бездне, которую призвала, когда она говорит голосом водопадов Твоих». А если судить о содержании приведенного отрывка, то современный математик не может не узнать в самой конструкции этой смятенной мысли формальную процедуру определения бесконечности. Представление о бесконечности мира, сдвинувшее античное знание с мертвой точки, родилось из опыта переживания человеческой бездны.
Впрочем, бесконечное — лишь момент диалога с Богом. Конструируется нечто более значимое — последний, предельный предмет испытующей мысли, превысить который она может, лишь мысля самое себя. Общение мысли со своими основаниями, отраженными в целое мира, и служит предельной концентрации того знания, что зримо разворачивается в истории.
Так уж повелось, что с бесами даже науки объясняются не ученые, а художники. Лорка в «Теории и игре беса» отлучает своего демона от «теологического беса сомнения, в которого Лютер с вакхической страстью запустил чернильницей в Нюрнберге», но настаивает на его родстве с бесом мысли[>2Лорка Ф.Г. Теория и гара беса. Ф.Г. Лорка. Об искусстве. М.: Издательство, 1971. С. 75-90.]. «Мой бес, темный и трепетный, ведет свою родословную от веселого демона — яркого, как мрамор и соль, запальчивого, оцарапавшего Сократа, когда тот принимал яд цикуты; и от меланхоличного, маленького, как зеленый миндаль, демона, который уводил уставшего от прямых и окружностей Декарта слушать на каналах песни пьяных матросов». Вряд ли ученый стал бы уточнять цвет, размер или нрав своего беса. Прямые высказывания на этот счет бестактны. «Главное в жизни человека моего склада заключается в том, что он думает и как он думает, а не в том, что он делает или испытывает», — отвечал Эйнштейн на предложения рассказать биографию.
Однако об изобретении Бора Эйнштейн высказывается в том же духе, в каком Лорка рассказывает о бое быков. Тореро, ужаленный бесом, дает нам уроки пифагорейской музыки. И состоит этот урок именно в том, что тореро, поминутно бросая свое сердце на рога быку, заставляет зрителя забыть об этом.
Так как же играет бес в физике?
Как всякое дело человека, вселенная физиков рукотворна. Это художественное творение со своими красотами. Но это художество воздвигнуто — в отличие от персональных вселенных искусства — коллективным умом. Все ученые рисуют одну картину, и в том им споспешествует мировое сообщество, замыслившее перестройку мира по образцу, вызывающему наименьшие разногласия. Поэтому их картина безлика.
То, что аппарат физики отражает мир не только внешний, но и внутренний, — теперь уже очевидно. Но субъективность физики принадлежит родовому субъекту. Время-пространство — это координаты опыта, одинакового всем нам, и потому они безразличны к жизненному опыту Эйнштейна. Однако бес персональный шепчет о личном. Иррациональная, безотчетная, безумная надежда вложить в безличную физику свой личный опыт, поправить с его учетом мировые координаты, улучшить правила общения людей с миром - вот бес физика, «жгучий, как толченое стекло в крови», «бес, поднимающийся от самых подошв». Эйнштейн не мог не чувствовать, что изменение принципов физики эквивалентно переизданию образа мира, а значит, и самого мира. И это ему удалось: вселенная Эйнштейна существенно отличается от вселенной Ньютона. Безличной Вселенной приписано еще одно имя собственное.
Закладывая основы кристаллографии, Кеплер вживался в снежинку. А вот как выглядит, по брошенным вскользь признаниям Эйнштейна, зародыш теории относительности. Общий формальный принцип относительности, пишет он, «я получил после десяти лет размышлений из парадокса, на который я натолкнулся уже в 16 лет. Парадокс заключается в следующем. Если бы я стал двигаться вслед за лучом света со скоростью С (скорость света в пустоте), то я должен был воспринимать такой луч света как покоящееся, переменное в пространстве электромагнитное поле. Но ничего подобного не существует...» Не будем прослеживать детали - достаточно того, что изложенный парадокс неразрешим в концепции ньютонова времени и пространства. И рождение этого парадокса не менее знаменательно, чем его разрешение. Молодой человек решил узнать, как выглядит сей мир с «точки зрения» света. И поскольку физическая картина мира обернулась абсурдом, пришлось перекраивать физику[* Горький рассказывал, как однажды застал сконфуженного Чехова за попытками поймать солнечный зайчик шляпой. Эйнштейн занимался этим более успешно, представив свои элементарные часы сгустком света, мечущимся между зеркальными поверхностями резонатора.].