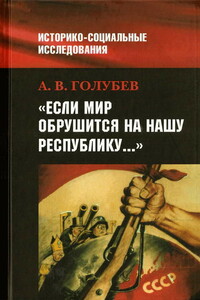Мешает ему председатель, а то задал бы он звона всем этим священным книгам, взятым напрокат у евреев!.. Ослепленный этой идеей, он, забывая все, идет напролом, нисколько не считаясь ни с правдой жизни вообще, ни с обстоятельствами настоящего дела в частности. Ведя весь допрос по делу Бейлиса крайне пристрастно, Шмаков и в речи своей, и в реплике, остался верен себе. Главная часть его обвинений была направлена в сторону установления признаков ритуала.
Понимая Ветхий завет крайне односторонне, совершенно не соображаясь с исторической библейской этнографией, не зная, или не умея сопоставить тексты, дать им именно то толкование, которое соответствует современному уровню знания, Шмаков постоянно смешивает то, что говорится, например, о животных, с тем, что указывается для людей. Ему безразлично, что все его выводы явно противоречат и здравому смыслу, и историческим знаниям: ему до этого нет никакого дела, ему нужно во что бы то ни стало доказать нелепую мысль о том, что евреи употребляют человеческую кровь при приготовлении мацы, и ничем иным он не интересуется.
Так как он все-таки понял, что обвинять Бейлиса нет никакой возможности, вся вина которого сводилась лишь к тому обстоятельству, что он - еврей, г. Шмаков сейчас же выставляет оригинальную версию убийства, что Ющинский убит не Бейлисом, а Бейлисом и Чеберяковой. Он хитро улыбается при этом, - вот, мол, открыл я какую Америку...
И действительно, как все просто у него, у этого явно больного, наяву бредившего евреями старика: Бейлису как еврею, нельзя проливать кровь, убивать, а Чеберяковой, как христианке, можно, и они добрые соседи, друг другу оказывают услуги. Бейлису понадобилась человеческая кровь, он сейчас к соседке:
- Кума, а кума... У тебя время есть?
- А что, куманек, что нужно-то?
- Да тут, пустяки, крови мне для мацы нужно, а резать мне самому нельзя, Моисеев закон запрещает, так ты уж помоги, кума, мы возблагодарим... {182} - Ну, что ж, куманек, можно...Мы с тобой друзья ведь!..
И любвеобильная госпожа Чеберяк огненным взором окинула черную бороду Менделя...
- Ну, так когда же?
- А что, скоро надо-то?
- Да, надо бы скоро!..
- Резать-то кого, курицу что ли?
- Нет, Андрюшку надо зарезать...
- Андрюшку, говоришь, ну что ж, зарежем Андрюшку, что он, беспутный, все болтается здесь...
Вот собственно сокровенный смысл, этой неслыханной, воистину сумасшедшей версии господина Шмакова...
До какой глупости могут дойти еще господа антисемиты в своих действительно изуверных предположениях, сказать не только трудно, но и невозможно... Для этих господ все допустимо, они не знают предела, который устанавливается разумом, совестью, чувством порядочности, велением научного знания... Для них, как для пьяных, море по колено: говори, плети, инсинуируй как можно больше, как можно чаще, и чем хуже, тем лучше... Ибо от клеветы всегда что-либо останется, что-либо прилипнет даже к совсем неповинным людям...
Речи Шмакова были до крайности утомительны, изнывающи и - совершенно ни для кого не убедительны...
Стыдно было слушать, как этот старец, убеленный сединами, во время реплики пустил в ход такую непристойность, как клятвенное заверение присяжных, что он, старик, честью своей и совестью заверяет, что убийцей Андрея Ющинского был Мендель Бейлис, и он поднял руку и показывал на него, этого несчастного человека, сидевшего там, за решеткой, на скамье подсудимых, и очевидно не знавшего, что ему делать, как быть, как защитить себя от этих нападок, этих утверждений...
Но совесть присяжных защитила его, нерушимой стеной оградивши Менделя Бейлиса от всех тех, кто жаждал видеть его осужденным, кто хотел насладиться его мучениями и жестокими страданиями... {183}
LХХII.
Речи защитников.
Я не буду разбирать здесь каждую речь защитников в отдельности. Постараюсь суммировать впечатление. Глубокая убежденность, глубокая искренность звучала во всех их речах, столь крепко, долго и мужественно стоявших на страже интересов не только подсудимого Менделя Бейлиса, но и на страже охранения чести и достоинства двух наций: русской и еврейской.