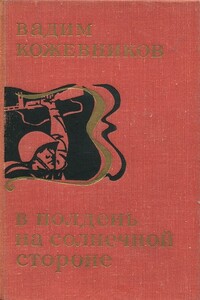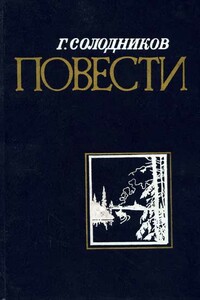Сорок человек из концлагеря фашисты расстреляли. Дарью поймали в Минске, где она собирала милостыню, притворяясь глухонемой. Теперь она очень хотела жить, хотя раньше все время хотела повеситься и два раза топилась в торфяной яме, но оба раза ее спасали. В ночь перед приходом Красной Армии в Минск заключенные в районе военного городка разбежались, и фашисты не успели убить их. Вместе со всеми убежала и Дарья Гурко.
В сожженной врагом деревне Михеды, километрах в сорока пяти от Минска, мы встретили Дарью Гурко.
На опаленной земле, у развалин печей, сидели люди. И не было слез у них на глазах. Сосредоточенно и деловито складывали они шалаши из досок, с великим упорством обживали родимую разоренную землю. И в тишине белых сумерек громко и властно звучал женский голос:
— Ребят общим котлом кормить надо. Мы от сухомятки не обезживотим, а детишек в заморе держать никак не позволю. У кого что есть — выкладывай!
Потом тот же голос мы слышали на дороге, где саперы выискивали мины:
— Если вам, ребята, недосуг по хлебам пройтись, так вы укажите, как мины вытаскивать, а я бабам объясню, мы сами справимся, а то фашист хлеба заминировал и нам к ним ходу нет.
Потом мы слышали песню у костра. Ее пел все тот же женский голос. Когда подошли к костру, мы увидели женщину, худую, с темным, глиняного цвета лицом, в заплатанном, изношенном донельзя рубище. Но когда она взглянула на нас, мы увидели ее глаза. И столько в них было необыкновенного, какого–то особенного, сильного внутреннего света — выражения ума, власти и воли к жизни, — что слова любопытства застряли в горле. Но она, словно угадывая, спросила насмешливо:
— Что, товарищи командиры, небось дивитесь? Пришла баба из немецкой тюрьмы, вместо дома уголья, а она песни поет?!
И вдруг лицо Гурко изменилось, еще больше потемнело, и она глухо произнесла:
— Я при гитлеровцах не плакала, не жаловалась. Но что за эти три года было — век помнить буду. Только вы мне объясните: с чего бы лучше сразу начать, чтобы все аккуратно получилось? Я тут сейчас вроде Советской власти. Меня, как самую закаленную, другие семейства над собой поставили. Уборка будет — большая забота. Инвентарю — раз, два: грабли и лопата. Нужно идти в лесу немецкую трофею искать.
— Вы бы сейчас как–нибудь устраивались, ведь нельзя в земляной яме жить.
— Почему нельзя? — удивилась Гурко. — Можно. Вы еще не знаете, как жить можно. Мне главное сейчас вот… это спасибо для вас сделать, которое земля сготовила. На словах–то каждый «привет» и «здрасте», а мне руками доказать необходимо. Хоть битая, да не согнутая. Мне охота Советской власти не в прекрасной жизни, а сейчас трудом отплатить. А то, выходит, вы освободили, а мы кто?
— Гордая вы.
— Мне война гордости прибавила. И, может, я сейчас на нищенку похожа, но я не несчастная. Я свою силу теперь сполна знаю: чего могу и чего не могу. Вы того не ведаете, сколько баба от счастья своего сделать сможет. Я теперь в самой силе и знаю, как словом в человеческое сердце попасть и что с ним после этого сделать.
Мы спросили у Гурко, в чем она сейчас нуждается. Она сказала:
— Сейчас в лесу немецких коней раненых нашли. Так я думаю паренька в часть за мазью послать или, может, сами отваром из побегушки выходим.
И только прощаясь с нами, Гурко шепотом попросила:
— Дайте, пожалуйста, мне такую книжку, где бы все описано было, что советские люди за время войны делали, как они такую силу набрали, а то у меня спрашивают, а рассказать не могу, не знаю, и от этого совестно, неловко перед людьми, которые меня так уважают и даже избрали председательницей. Так будьте любезны, если с собой не имеется, пришлите. Может, у нас почта не будет работать, так я в Минск пешком схожу. Книга эта нам больше, чем хлеб, сейчас нужна. Вот как нужна эта книга.
Через полтора месяца снова ночью мне пришлось проезжать по этим же самым местам. Словно белые цветы, висели звезды, воздух крепко пропитался запахом влажной травы, и казалось, что этот запах исходит от прохладного синего неба.
Приближаясь к знакомому пепелищу, я вдруг увидел силуэты каких–то построек. Раньше здесь ничего не было.