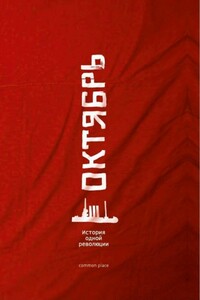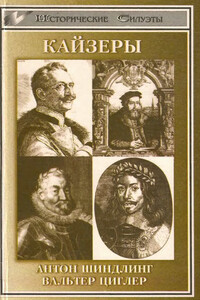Отсюда вывод: «Стихи должны славить прежде всего науку и промышленность!»
По трубе раскаленной гиганта-котла
Льется сжигающий пламень угля, —
Нет равных сверхжаркому монстру верзил!
Дрожит оболочка, машина ревет
И, паром наполнившись, мощь выдает
Восьмидесяти лошадиных сил.
Но велит машинист рычагу тяжеленному
Заслонки открыть, и по цилиндру толстенному
Гонит поршень двойной, извергающий стон!
Буксуют колеса! Взмыла скорость на диво!
Свисток оглушает! Салют локомотиву
Системы Крэмптон!
Не правда ли, эти стихи, сочиненные Жюлем Верном, напоминают опыты будущих футуристов, пролеткультовцев, конструктивистов?
Еще грубее, еще откровеннее Жюль Верн издевался в романе «Париж в XX веке» над театром и музыкой. Да-да, над высокой чудесной музыкой, над волшебным миром театра. Другими словами, над своей великой несбывшейся любовью, над своим вожделенным раем, над миром счастливых и таких сладких грез, в который его не пустили, в котором его не сочли равным.
«Кенсоннас сказал:
— Друзья, замечали ли вы, какие у нас большие уши?
— Нет, — ответил Жак.
— Так сравните их тщательно с античными или средневековыми ушами, изучите все известные нам картины и скульптуры. Вы сразу устрашитесь: наши уши со временем увеличиваются в той же мере, в какой уменьшается наш рост. И виной тому — музыка! Именно музыка! Согласитесь, нельзя безнаказанно в течение целого века впрыскивать себе в уши звуки Верди или Вагнера.
— Но ведь в Опере еще дают старые шедевры.
— Знаю, знаю, — охотно ответил Кенсоннас. — Поговаривают даже о том, чтобы возобновить "Орфея в аду" Оффенбаха — с речитативами, введенными в этот шедевр Шарлем Гуно. Но "Гугеноты" теперь сведены к одному акту и служат лишь вступлением к модным балетным номерам. Этого достаточно. Трико балерин столь прозрачны, что их уже не отличишь от живой натуры. И это понятно: все делается по вкусу финансистов. Опера стала филиалом Биржи: там теперь до истинной музыки никому дела нет. Певцы ржут, визжат, воют, ревут, испускают звуки, не имеющие ничего общего с пением. А что касается оркестра, то он вообще пал ниже некуда. Ах, если бы можно было использовать растрачиваемую впустую силу, с которой жмут на педали фортепиано, хотя бы для вычерпывания воды из угольных шахт! Ах, если бы воздух, выдуваемый из труб, приводил в движение колеса мельниц! Если бы возвратно-поступательное движение кулисы тромбона применялось на механической лесопилке!»
И к этому совсем уж решительные оценки.
Забытые арии пресловутого «Вильгельма Телля»…
Утомительные мелодии галантной эпохи Герольда и Обера…
Берлиоз, глава школы импотентов, чьи музыкальные идеи выливались в завистливые фельетоны… Гуно, умерший после того, как принял постриг в вагнеровской церкви… И так далее и тому подобное.
А женщины!
О, эти женщины!
«Если верить старым эстампам, парижанка когда-то была ну просто очаровательным созданием. Она соединяла в себе самые совершенные пороки и самые порочные совершенства, будучи женщиной — в полном смысле этого слова. Но мало-помалу кровь парижанки теряла чистоту, порода деградировала. Все знают, что из отвратительных гусениц со временем выходят очаровательные бабочки, а у нас почему-то все произошло наоборот — очаровательные бабочки чаще всего превращаются в отвратительных гусениц. Походка парижанки, ее осанка, насмешливый нежный взгляд, милая улыбка — все это уступило место формам на удивление вытянутым, высушенным, жилистым, костлявым, истощенным. Ангел геометрии, некогда столь щедро одаривший наших женщин самыми притягательными округлостями, теперь навязал им прямые линии и острые углы. Француженки, как и американки, всерьез рассуждают о важных делах и воспринимают жизнь без тени улыбки. Оседлав тощую кобылу нравственности, они одеваются из вон рук плохо, безвкусно, носят корсеты из гальванизированной стали, способные отразить самый сильный натиск…»
Жюль Верн бушевал.
Он хотел высказаться.
Теперь за ним стояли надежный Этцель (так он считал) и чудесная любящая мадам Дюшен, присутствие которой на страницах «Парижа в XX веке» было столь ощутимым, что роман, пожалуй, можно было назвать романом любовным.