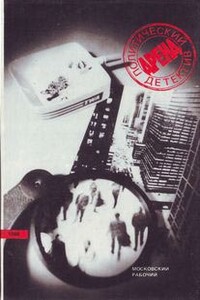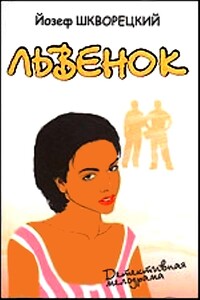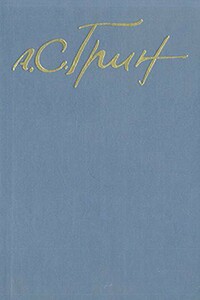Шурф суетился, подобно Пачкуну, мясник давно уверовал, что беды боятся денег, как огонь воды и, если бочек поливальных в избытке, всегда пламя собьешь, а еще Мишка предвкушал предстоящие рассказы - благо очевидец - перетасовывал подробности, умилялся раскрытым ртам, видел себя в центре внимания и обмозговывал, где приврать допустимо, а где держаться единственно правды. Беда не велика. Приманке не позавидуешь - факт, остальным только нервное возбуждение, ну, может, общеукрепляющая маета с законом: Мишка считал, что труженикам опасных ремесел время от времени с законом сталкиваться, что спортсмену тренировки, вещь необходимая, не то навык утеряешь. И сейчас про себя беседовал с дознавателем, перебирая, что спросит чин, а что ответит Шурф, а о чем умолчит.
Фердуева отворила форточку, с улицы ворвался покалывающий воздух. Дурасникова облизало холодом, и впервые, кажется, зампред убедился, что все наяву, не сон, не полупьяный бред, а именно в его присутствии сгорела девка и как раз та, желанная, наделенная буйным, голодным воображением зампреда невиданными женскими совершенствами. Дурасников бочком покатился к двери. Побег завораживал - возможно выкрутится? - беглец перебирал ножонками не хуже балерины, на одних носках неслышно крался к медной дверной ручке - дерни на себя и... свобода - только ноги не жалей, дуй во всю мочь, дальше и дальше...
- Куда вы, Трифон Кузьмич? - Фердуева ласково прихватила трясущегося Дурасникова, потянула к себе.
Сволочь! Господи, каковская сволота. Ну, мужики всегда отличались, но баб-то вывели каких, Господи, хуже пьянчуги-убивца: ни сострадания, ни боязни, вроде как и надругаются над сильным полом, мол, обратили нас в стерв, стреноженных авоськами, придавленных кульками да бурлацкими поклажами, теперь лопайте от пуза чево желали.
- Там холодно, Трифон Кузьмич, а вы налегке, - добавила Фердуева, озирая притихшую горстку перепуганных и давая понять каждому, что зампред желал бросить дружков на растерзание и вульгарно смотаться, блюдя собственную сохранность.
Дурасников едва не рухнул от злобы, глотку стянуло, будто обручем стальным или струной, как теперь принято, по уверениям рыжего Филиппа, заклокотал зампред по животному, разевая рот и выпучивая глаза.
Фердуева успокаивала Дурасникова, поглаживала, радовалась, что угодит рыжему Филиппу, если удастся принести в жертву зампреда: начальство любит время от времени бросить на растерзание львам оступившегося из своего круга: двойная выгода, и народ ублажен жертвоприношением, и в кругу избранных, если кто бузотерить вознамерился, поутихнет при виде жестокой расправы. Филипп, конечно, никогда бы не сказал Фердуевой прямо, мол, подставь Дурасникова, но Нина Пантелеевна умела уловить тонкие помыслы прикрывающих властодержцев, умела порадовать даром, не унижая, не доводя средних и мелких тиранчиков до высказанной вслух просьбы.
Триша, хотела укорить Фердуева, что ж ты, сукин кот, мылишься в бега, а ответственность? Ваша дойная коровенка, протерли уши внемлющих до дыр, а на себя-то не шибко примеряли эту самую ответственность! Триша, притормози, побудь в коллективе, водочку-то вместе жрали под икорку, под разносолы Почуваева, а кругом, Триша, твоими и напарничков твоих трудами запустение: зараза в родильных домах, осатаневшие в злобе сестры милосердия в больницах, старики и старухи, сирые и калеки, доведенные до нечеловеческой нищеты, боль и горе кругом, Триша, и барахтаются в водочных волнах смытые с корабля нормальной житухи, и захлебываются, и ко дну идут камнем.
В домике напротив коротышка Кордо, как раз допивал остывший чай. Молчали долго. Апраксин сутулился на шатком табурете, и следователь прокуратуры вдруг высказался, будто для самого себя, будто увидел - чего увидеть никак не мог - что Фердуева подбирает слова клеймящие зампреда и, неожиданно, продолжая нескончаемую беседу с Апраксиным, разразился поучающим:
- Тут какая штука вырисовывается... когда верность властям становится промыслом подавляющего большинства, за верность перестают щедро платить и тогда все бросаются изыскивать источники денег вне госкормушки. Заковыка!..