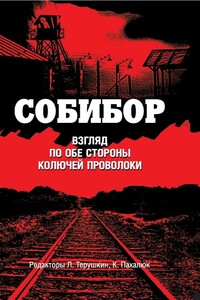Чем закончить биографию? Вопросом: удалось ли герою достичь целей, которые ставил перед собой? Вступая в Красную армию, Жуков хотел служить своей стране, советскому строю и правящей партии. Ему это удалось. Кроме того, он способствовал спасению родины и существовавшего режима. Да, цена победы оказалась страшной. Но цена поражения была бы еще страшней. Имелась ли у него такая цель, как превращение Красной армии в современный, то есть автономный институт? Да, на сей счет не может быть никаких сомнений. Не поняв, что главным препятствием для достижения этой цели является плотный контроль партии над армией, Жуков разбил голову об это препятствие. Здесь он потерпел поражение.
Еще один вопрос: место его героя в истории. В российской истории, как мы уже говорили, Жуков стоит в одном ряду с Суворовым и Кутузовым. Это единственный военачальник советского периода, о котором русский народ будет еще долго хранить память, точно так же, как хранит память о Суворове, погребенном в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, и Кутузове, чей кенотаф находится перед Бородинской панорамой в Москве.
Гораздо более интересен вопрос о месте Жукова в военной истории.
Если речь идет о том, чтобы определить место маршала в истории Великой Отечественной войны, то ответ прост. Ни один из советских военачальников высшего ранга не может быть поставлен в один ряд с Жуковым. В 1939–1940 годах он единственный советский генерал, в чьем активе была крупная победа на Халхин-Голе; в то же самое время Тимошенко и Мерецков, не говоря уже о Ворошилове, добились весьма скромных успехов в Финляндии. В 1941 году, будучи начальником Генштаба, он сохранил хладнокровие при разгроме, равных которому в истории было крайне мало. Если в первые дни он ничего не мог сделать, даже усугублял ситуацию, уступив насаждавшемуся в Красной армии стремлению к наступлению, то, по крайней мере, раньше всех понял, что происходит и что следует делать в данной ситуации, как в оперативном, так и в стратегическом плане. Он также первым осознал необходимость сокращения командных инстанций всех уровней, чтобы решить проблему нехватки офицерских кадров, и увидел слабое развитие средств связи. Он успешно действовал под Ельней и Ленинградом, вдохнув отвагу в бойцов и командиров, в то время как командующие на других направлениях либо потерпели поражение (Павлов, Кузнецов), либо не добились успеха (Тимошенко). В октябре Конев и Еременко, выставляемые в качестве его соперников, опозорились под Вязьмой и Брянском. Когда у многих опустились руки, Жуков исправил ситуацию, ставшую катастрофической в результате этих поражений, вернул веру в свои силы разбитой армии и растерявшемуся партаппарату. Он восстановил фронт, потом руководил оборонительным сражением, измотавшим противника, отступая шаг за шагом и контратакуя при каждой возможности. С поразительным хладнокровием, когда неприятель стоял на подступах к столице, он накапливал силы, вопреки давлению Сталина и угрозам Молотова. Наконец ему удалось провести успешное контрнаступление с армией, которая по своему типу была скорее армией Первой мировой войны, в которой лыж было больше, чем танковых траков. Он был первым военачальником, кто в полевом сражении нанес поражение германской армии и ее лучшим военачальникам: Боку, Гудериану, Гёпнеру, Рейнхардту… В советской армии ему не было соперников.