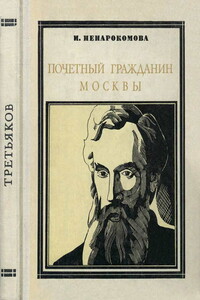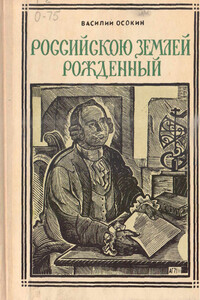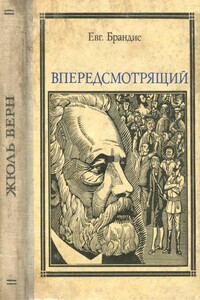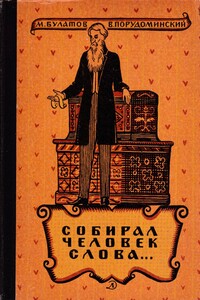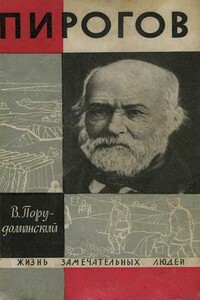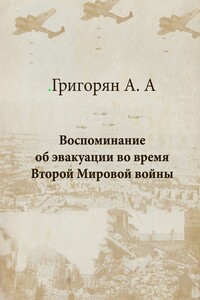Мойер рассказывал Пирогову:
— Я приехал к Русту из Италии, от Скарпы. Руст показал мне в госпитале одного больного с опухолью под коленом. "Что бы тут сделал старик Скарпа?" — спросил он у меня. Я ответил, что Скарпа предложил бы ампутацию. "А я вырежу опухоль", — сказал Руст. Подлипалы и подпевалы уговаривали его показать прыть перед учеником Скарпы, и Руст тут же приступил к операции. Нарост оказался сросшимся с костью, кровь брызгала струей, больной истекал кровью; ассистенты со страху разбежались. Я помогал оторопевшему оператору перевязывать артерию. И тогда Руст сказал мне: "Этих подлецов я не должен был слушать, а вот вы не советовали мне начинать операцию и все-таки не покинули меня, я этого никогда не забуду".
Однажды после трудно проходившей, затянувшейся литотомии — операции по извлечению камня из пузыря, — которую делал Мойер, Пирогов сострил: "Если эта операция кончится удачно, я произведу камнесечение палкой". Передали Мойеру, он не обиделся: рассмеялся от души. Ему не нужны были подлипалы и подпевалы — он радовался ученику.
Пирогов исповедовался в записках, вспоминая, как юношеское самомнение поставило его однажды "в чистые дураки": "Нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный". Мойер с улыбкой начал над ним подтрунивать. "Я должен был прикусить язык и смеяться над собственной же нелепостью". Сто лет спустя известный отечественный хирург, профессор В. А. Оппель приведет этот рассказ Пирогова и заключит восторженно: "Ну разве не гений?! Гениальный ум и гениальная научная фантазия вели Пирогова так далеко, что его современники, и опытные, пожимали плечами над мыслями мальчишки, заставляли и его смеяться над собой, сконфуженного, а в то же время заставляли его отмечать, его уважать, ему удивляться".
Смеясь, может быть, чувствовал Мойер, как по спине мурашки пробегают, — дай срок, мальчишка впрямь и камнесечение сделает, какое доселе не снилось никому, и сустав вставит. Отношение Мойера к Пирогову сродни отношению Жуковского к Пушкину: это отношение побеждаемого учителя к побеждающему ученику.
В полете
Не потому человек, едва появился на Земле, едва встал на ноги, устремил взгляд в небо и возмечтал летать, что пекся о скорости передвижения. Нет! Полет — это преодоление земного притяжения, силы тяжести, победа над косным, над тем, что представлялось непременным и неизменным, над собою вчерашним; полет — это широта взгляда и свобода движения.
Пирогов счастлив — он летает.
Из аудитории летит в клинику, из клиники в анатомический театр — ставит опыты на животных, учится оперировать на трупах, — надо проверить, подтвердить опытом все, что услышал, прочитал, увидел, надо приготовиться к тому, что предстоит завтра.
Уже друзья-приятели давно разбрелись: кто засел в заполненном шумом и табачным дымом кабачке, где крепкие кельнерши, бойко отвечая на шутки посетителей, ставят на столы высокие под белой шапкой пены пивные кружки, кто предпочел бутылку красного вина и душевную беседу с товарищем, кто в благовоспитанном семействе у камина скучно жует бутерброд, запивая молоком из узкого стакана, кто уже завалился на покой в студенческой своей келье под скошенным потолком мезонина, украшенной висящей над кроватью шпагой (дела чести дерптские студенты решают на дуэли) и стоящим на шкафу черепом, — вряд ли, впрочем, обитатель кельи порядочно помнит названия составляющих череп костей, швов, перегородок и отверстий, а кто, наоборот, не обрел еще крова и, сотрясая песнями воздух, бродит по темным аллеям парка, узким городским улицам, вдоль берега неширокой реки, ставшей местом вечного успокоения многих хмельных гуляк, — Пирогов работает.
Уже и сторож, жилистый чухонец с желтым от вдыхания дурных испарений лицом, храпит в сенях, и храп его, разносясь по темной пустой мертвецкой, в чувствительных до гулкости ушах Пирогова отдается смещением горных массивов, — Пирогов, приладив прямо на грудь трупа несколько свечей в низких подсвечниках, увлеченно оперирует. Ах как легко идет рука, как уверенны и точны разрезы, как аккуратно и красиво ложатся швы: здесь, когда больной не кричит, не дергается, когда рана не кровит, когда рука и сердце спокойны, потому что уже ничего не решают, рождается сознание собственного могущества; операции здесь проходят ладно, гладко и пресно. Пресно — потому что больной не дышит тяжело, не стонет, не бьется, потому что рана не кровит живой кровью, потому что могущество твое — техника, не более, а главное могущество врача — борьба за жизнь и победа в борьбе. Но он придвигает свечу ближе к ране. Это холодное старое тело, которое некому предать земле, для него целый мир, он орудует ножом вширь и вглубь, он вместе географ и геолог, он каждым движением открывает новые острова и земли этого лежащего перед ним мира, исследует его пласты; завтра в клинике для него не окажется неожиданностей, Иван Филиппович не успеет рот раскрыть, чтобы присоветовать что-то, а он, опережая учителя, будет заранее знать, что встретит: вид мышцы, направление и глубину залегания сосуда, протяжение нерва…