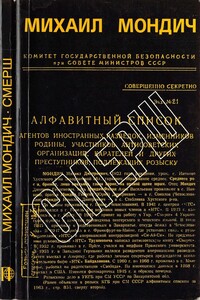«Полиция перешла границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны были иметь особенную натуру, чтобы в то время, как душа их была наполнена глубокой скорбью, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов, с какой-то целью, которая никаким рассудком постигнута быть не может».
То же чувство негодования и обиды кипит в письмах Вяземского. Великому князю Михаилу Павловичу он пишет: «Объявили, что мера эта была принята в видах общественной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерна. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом: осмелились со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувства, враждебные властям, утверждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического деятеля. Выражение горя к столь несчастной кончине, потеря друга, поклонение таланту были истолкованы как политическое и враждебное правительству движение».
Страх народного возмущения, о котором никто не помышлял, кроме жандармов, был так велик, что на Мойке, вокруг дома Волконских, на соседних улицах, на всем пути от дома до Конюшенной улицы, поставили солдат. И этого показалось мало. В ночь выноса в небольшую гостиную Пушкиных, где собрались только самые близкие друзья покойного, внезапно явился наряд жандармских офицеров.
«Без преувеличенья можно сказать, – писал Вяземский, – что у гроба собралось больше жандармов, чем друзей. Не говоря уж о солдатских пикетах, расставленных на улицах. Но против кого же была эта воинская сила, наполнявшая собой дом покойного? Против кого эти переодетые, но всеми узнанные шпики? Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания».
В первом часу ночи, когда опустели улицы, когда затихла русская столица, тело ее певца перевезли в церковь настолько тесную, что вместить всех приглашенных на отпевание она не могла. Несмотря на все это, «похороны Пушкина отличались особой пышностью и торжественностью», как доносил своему правительству барон Люцероде, который был так огорчен этой смертью, что вечером, в знак траура, отменил у себя танцы. Многие ли русские так же поступили, неизвестно.
Небольшая церковь была переполнена. Был весь дипломатический корпус, кроме больного английского посла и, конечно, голландского посланника. Суетный Тургенев в тот же день докладывал Нефедьевой: «Народ в церковь не пускали. Едва достало места и для блестящей публики… Дамы красавицы и модниц множество… Мы на руках вынесли гроб в подвал, на другой двор; едва нас не раздавили. Площадь вся покрыта народом, в домах и на набережной Мойки тоже».
«Это действительно народные похороны, – записал в дневник цензор Никитенко. – Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, – все стеклось к церкви, где отпевали поэта. Площадь была усеяна экипажами и публикой».
Было сделано все, чтобы не допустить на похороны молодежь. Лицеистам не позволили приехать из Царского Села. В университете обязали профессоров читать в этот день лекции, боялись, что они, вместе со студентами, устроят демонстрацию. Студенты поодиночке, украдкой пробирались на площадь, поклониться праху величайшего русского писателя. Многие из них, вероятно, повторяли стихи Лермонтова, уже разлетавшиеся по Петербургу, по России. Эти стихи усиливали нервность жандармов, хотя клеймящие их слова о надменных потомках известной подлостью прославленных отцов были добавлены Лермонтовым позже, на гауптвахте, куда его за эти стихи посадили.
Свой страх правительство проявляло грубо и бестактно. Запреты, солдаты, нелепые распоряжения и стеснения придали похоронам политический характер, отняли от них то общенародное благолепие, которым они должны были быть отмечены. Это задело, возмутило многих и, конечно, прежде всего друзей Пушкина.