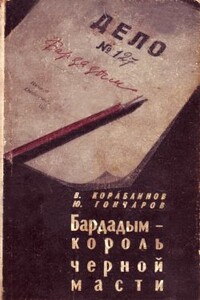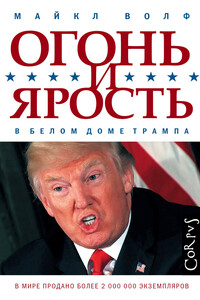– Вы мне словно мою собственную жизнь рассказываете, – улыбнулся Иван Савич. – Мечты юности, родитель, лавка… Да, да, все мы – рабы нашего бытового уклада, и это грустно, конечно. Но вы сказывали сейчас о книжке, – повернул разговор Никитин. – Что за книжка? Чем она вас так увлекла? Ах, да садитесь же! Извините бога ради… растерялся. И со своей стороны позвольте рекомендоваться: Никитин Иван Савич, воронежский мещанин…
– Душевно рад познакомиться! – Крепкое рукопожатье положило начало их пятилетней дружбе. Рука Никитина была горяча, сильна, суха; Иван Иванычева – слегка влажна и по-женски податлива.
Поглядели в глаза друг другу, улыбнулись.
– Книга? Да вот… – Иван Иваныч достал из пиджачного кармана маленький томик в бумажной обертке. – Автор ее мне совершенно неизвестен, какой-то Федор Достоевский. Но что за волшебник! Я вам сейчас наугад, где открою, там и прочту, вы сами увидите… А! Ну вот хотя бы, извольте-с…
– «… У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает, – не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то и запах от белья меня беспокоит немного; но ничего, поживешь и попривыкнешь»… Не правда ли, потрясающую картину набросал Федор Достоевский? – Иван Иваныч искоса глянул на Никитина.
– То есть картину человеческого убожества! – резко, неприязненно воскликнул Иван Савич. – Убожества – и только! А поэзия? А красота? Где же они? Да полноте, мыслима ли жизнь без них, ежели одно лишь нищенство видеть, одно убожество…
– Поэзия? – задумчиво произнес Иван Иваныч. – А что она, эта поэзия? Господин Жуковский писал: «Как утро юного творенья, она пленительна пришла и первый пламень вдохновенья струнами первыми зажгла…» Оно, конечно, прекрасно: чистота, прозрачность, свет… Но вспомните же, друг мой Иван Савич, и такие стихи:
… в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю…
Правда жизни, мой друг, вот – поэзия!
– Так, по-вашему, выходит, и эта жалкая лачуга, где мы с вами сидим, и грязный двор, и храпящие извозчики – все поэзия?
– О да! – горячо сказал Иван Иваныч. – Всеконечно! Ах! – в какой-то мучительной тоске взметнулся он. – Если б господь подарил мне хоть каплю таланта!
– Помилуйте, вы так красно говорите… Так широко судите о литературе! Убежден, что и перо ваше превосходно.
Иван Иваныч засмеялся, развел руками:
– Двух слов связать не умею, голубчик Иван Савич, представьте себе! Ей-богу-с!
Они мало что не до света просидели, увлекшись чтением печальной книги, где жили горе, униженье и человеческая бедность. То, что Иван Савич разумел поэзией, в романе не присутствовало нисколько, была одна грубая прозаическая существенность, – жалкие люди писали друг другу жалкие письма; в их интонации слышались рыданья, тяжкие вздохи, бессвязный лепет утешенья, робкие мечты. Но что же, как не истинная поэзия, вызывало слезы на глазах и чтеца и слушателя? Автор был неизвестен, но то, что это – талант недюжинный, оригинальный, казалось бесспорным. «Вот погодите, – сказал Иван Иваныч, – пройдет немного времени – и слава господина. Достоевского Федора прогремит на всю Россию!»
… В тюремной тоске, в тесноте склизкого и душного Петропавловского каземата метался молодой узник. Унылый перезвон полночных курантов слышался сквозь узкую черную щель оконца, протяжный крик часового на кронверке. Будущее мнилось жестоким палачом с пеньковой удавкой в руке. Каторга, кандалы, погребение заживо – вот что представляло собою будущее. Если б он знал, какую в этот заполуночный час, за тысячу верст, в самой глубине России, – какую любовь народа, какую славу предрекают ему!
В синем предрассвете гулко, богатырски ухнул монастырский большой – и по всему городу откликнулись колокола. В городе Воронеже начинались торжества обнесения мощей преподобного Митрофания.