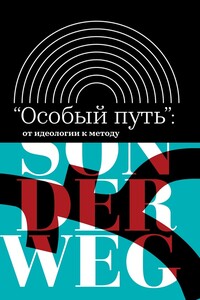За неделю до ухода из дома Толстой заметил в разговоре с последователями:
Ошибка, когда мы желаем устраивать жизнь других людей, даже своих детей. В числе всех суеверий, от которых страдает человечество, есть устроительство других людей, на основании которого существует государство, всякое правительство, социально-революционное устроительство и даже до малейших подробностей устроительство своих детей. <Надо> стараться быть свободным от желания устроить <других>. Если я сильно желаю устроить, я легко подпадаю соблазну устроить насилие. Желать быть свободным от устроительства[88].
Самые близкие ему люди оказались неспособны воспринять эту заповедь. Толстого интенсивно лечили. Он никогда не доверял медицине, считая ее в лучшем случае бесполезной для больных и тем более для умирающих. В то же время он полагал, что такого рода усилия могут быть полезны для тех, кто находится рядом с больными и умирающими, поскольку создают у них иллюзию осмысленной деятельности. Временами он возражал против каких-то процедур, прося «не пихать в него» и «не мешать ему», но в целом был терпеливым и послушным пациентом. Вместе с тем он твердо и решительно сопротивлялся попыткам сделать ему инъекцию морфия.
Помимо категорического неприятия любых одурманивающих веществ, у Толстого была еще одна причина не соглашаться на применение опиатов. Всю жизнь он думал о смерти, ждал ее и готовился к ней. Для него было важно встретить этот торжественный момент лицом к лицу и в сознании. Этой возможности ему тоже не предоставили.
Умирание оказалось для него мучительным – его тело сопротивлялось неизбежному. Перед самой кончиной он согласился, чтобы ему сделали укол, но только после того, как его заверили, что введут камфару, а не морфий. Он позвал старшего сына и с трудом выговорил: «Сережа… истина… Я люблю много». Разные мемуаристы передают эту фразу чуть по-разному, но ее смысл был понятен всем. В одиннадцать часов, когда рядом с ним находились только врачи, сильно страдавший Толстой сказал: «Как трудно умирать! Надо жить по-Божьи».
Получасом позже, видя, что больной мучается от икоты, Маковицкий предложил впрыснуть морфий. «Парфина не хочу», – слабым голосом произнес Толстой. Тем не менее ближе к полуночи ему все-таки сделали укол наркотика. Через четверть часа в «полубреду» Толстой сказал: «Я пойду куда-нибудь, чтобы мне никто не мешал (или не нашел). Оставьте меня в покое… Надо удирать, надо удирать куда-нибудь»[89]. Это были его последние слова.
Аккуратный Маковицкий вставил в скобках вариант «не нашел», полагая, что мог не разобрать слов Толстого. Смысл его предсмертного высказывания, однако, от этого не меняется. Как и за восемьдесят лет до того, когда любящие его взрослые стояли возле постели, не распеленывая его, Толстой протестовал против удушающего контроля. И все же два эти эпизода отличались друг от друга. На этот раз у него была возможность куда-нибудь «удрать». Он воспользовался этой возможностью на следующее утро, 7 ноября в 6:05.
Толстой. 1878–1879-е гг.
Силуэт матери Толстого.1800-е гг.
Толстой – подросток. Самое раннее изображение Толстого. 1840-е гг.
Дом Толстых в Ясной Поляне
Сестры Софья и Татьяна Берс. 1861 г.
Толстой перед свадьбой. 1862 г.
Софья Берс перед свадьбой. 1862 г.
Татьяна Берс. 1862 г.
С.Н. Толстой. 1860-е гг.
С.А. Толстая. 1866 г.
Толстой после окончания «Войны и мира». 1868 г.
М.В. Нестеров. Портрет В.Г. Черткова. 1890 г.
Дом Толстых в Хамовниках. 1868 г.
Толстой в деревне Русаново на голоде. 1891 г.
Кабинет Толстого в Ясной Поляне («комната под сводами»)
С.А. Толстая у портрета умершего сына Ванечки. 1895 г.
Толстой. 1908 г.
Толстой в кабинете в Ясной Поляне
Толстой на верховой прогулке. 1909 г.
Последняя совместная фотография Толстых. 25 сентября 1910 г.
С. А. Толстая, заглядывающая в окно дома, где умирает Толстой. Ноябрь 1910 г.
Могила Толстого
1. Лев Толстой. 1878–1879 гг. Фотография М. Панова. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.
2. Силуэт М.Н. Волконской, матери Л.Н. Толстого, с подписью «моя мать», сделанной рукой писателя. Начало XIX века. © Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва.