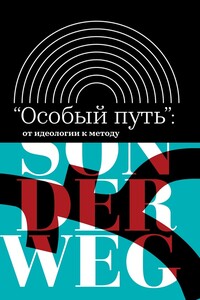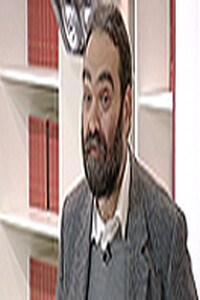Поехали в Павловск. Отвратительно. Девки, глупая музыка, девки, искусственный соловей, девки, жара, папиросный дым, девки, водка, сыр, неистовые крики, девки, девки, девки! Все стараются притвориться, что им весело и что девки им нравятся, но неудачно. (ПСС, XLVII, 70–71)
Какое-то время петербургские писатели терпели выходки Толстого из уважения к его таланту. Его отношения с Тургеневым с самого начала оказались довольно напряженными и были дополнительно осложнены намечавшимся романом Тургенева с замужней сестрой Толстого. В 1861 году в доме у Фета Тургенев с гордостью рассказывал друзьям, что его незаконная дочь, воспитанием которой он занимался сам, штопает одежду нищим. Толстой не стал скрывать, что находит такое поведение отталкивающим и театральным. В результате последовавшей ссоры Тургенев обещал «дать Толстому в рожу». Последовал вызов на дуэль, которая, к счастью для русской литературы, не состоялась. В январе 1862 года Толстой писал Фету: «Тургенев – подлец, которого надобно бить» (ПСС, LX, 406, 412). В том же письме он просил самого Фета никогда ему больше не писать и пообещал не распечатывать полученных писем. Его ссора с Тургеневым длилась семнадцать лет и завершилась только в 1878 году трогательным, хотя и неполным примирением. С Фетом же Толстой восстановил отношения очень быстро – их близкая дружба продолжалась потом долгие десятилетия.
Как и Толстой, Фет с трудом вписывался в литературную среду. В 1820 году его отец, орловский помещик Афанасий Шеншин, в порыве страсти увез от мужа его мать Шарлотту Фет, беременную будущим поэтом. Обойдя все законы, Шеншин сумел жениться на Шарлотте, но через четырнадцать лет обман раскрылся и ничего не подозревавший мальчик разом оказался лишен дворянского статуса, права на наследование и даже имени. С той поры Фет был одержим идеей вернуть утраченное положение: сначала с помощью военной службы, а потом – брака по расчету и умелого управления имениями. Ради этого он расстался с Марией Лазич, которую всю жизнь считал единственной любовью. Вскоре после их разрыва Мария погибла – был ли это несчастный случай или самоубийство, мы никогда не узнаем. При этом Фет писал стихи, исполненные восхищенной любви к красоте мироздания и острой тоски по иному миру.
Толстой мог оценить это прихотливое сочетание поэтического безумия и воинствующей рациональности как мало кто другой. В то же время в отличие от Фета он никогда не умел и не хотел разделять две эти грани собственной личности и отводить для них различные сферы жизни. Еще в Петербурге он наметил для себя совершенно новую социальную роль.
В марте 1856 года, через несколько дней после заключения мира Александр II сообщил представителям московского дворянства, что отмена крепостного права неизбежна и должна быть осуществлена сверху, прежде чем крестьяне начнут освобождать себя сами. Предстоящая реформа была делом немыслимой сложности. Освободить крестьян с землей значило пойти на беспрецедентное изъятие дворянской собственности, освобождение без земли привело бы к одновременной пролетаризации миллионов крестьян. Император создал секретный комитет для подготовки реформы и одновременно призвал дворян самим освобождать крестьян в собственных имениях.
В мае Толстой, которому в равной мере надоели литераторы, аристократы и девки, уехал в Ясную Поляну заниматься освобождением крепостных. Он составил план действий, который должен был стать образцом для других помещиков. Крестьяне, однако, сомневались в добрых намерениях барина и ожидали настоящего освобождения от царя. Толстой, уверенный, что его проект куда выгоднее для мужиков, чем все, что когда-либо смогут предложить им придворные бюрократы, был оскорблен и растерян. Этот горький опыт взаимного непонимания отразился в его повести «Утро помещика», герой которой, проведя день в тщетных попытках облегчить жизнь крестьян, возвращается домой со «смешанным чувством усталости, стыда, бессилия и раскаяния» (ПСС, IV, 167).
10 января 1857 года Толстой получил паспорт и в первый раз в жизни, если не считать краткой военной службы в Румынии, отправился за границу. Его путь лежал в Париж, культурную столицу Европы и мира, где его уже ждал Тургенев. Пробыв там два месяца, он почувствовал, что Париж ему «опротивел», и отправился в Швейцарию – наслаждаться горными пейзажами, прославленными Руссо.