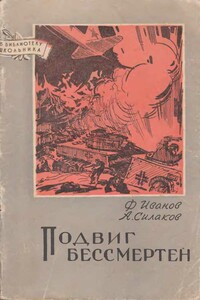Дети заметили эту мою странность и решили, что я — девочка, раз не могу зайти в туалет вместе с ними.
Гого, Гого! («девочка, девочка») — звали они меня, подбегали, лапали за мягкие места и пытались отыскать отличительные от девочки части тела. Еще бы
— бороды и усов у меня еще не было, женского бюста тоже, а детям так хотелось окончательно убедиться, что я — девочка. Теперь, как мне известно, и в детском саду и в школе группы общие, а тогда об этом и подумать нельзя было. И детские сады и школы были мужские и женские. По крайней мере, старшие группы детских садов были раздельные.
Я был загнан в угол окончательно. Однажды я стоял, прислонившись к решетчатому забору, смотрел на бегающих русских ребят и плакал. Вдруг ко мне с той стороны забора подошел крупный светловолосый парень и спросил: «Ты чего плачешь, пацан, обижают, что ли?» Я кивнул и быстро, глотая слова, чтобы успеть высказаться, рассказал парню, что я не знаю грузинский, что меня из-за этого бьют, что я не могу больше здесь находиться.
— Погоди немного, — сказал парень и убежал. Через минуту он был уже на территории грузинской группы, подошел ко мне, взял за руку и повел по двору. Вокруг столпились мои обидчики и, как зверьки, с любопытством смотрели, что будет.
— Я — Коля, вы меня знаете. Это, — он указал на меня, — мой друг. Я набью морду любому, кто его обидит! Понятно, или сказать по-грузински?
Дети закивали как болванчики, злобно глядя на меня. Я был восхищен речью шестилетнего Коли, но понял, что завтра мне придет конец. Урок поиска золота в деревянном барабане многому меня научил. Но там был один полоумный «юзгар», а здесь — целая группа злых, как хорьков, детей.
Когда мама вела меня домой, я срывающимся голосом попросил:
— Мама, не отправляй меня больше в этот детский сад, я не буду мешать дома, не буду спускаться во двор, не буду даже ходить по комнатам. Я буду неподвижно сидеть на стуле, чтобы не мешать, только не отправляй меня сюда больше!
Но мама назвала все это глупостями, сказала, чтобы я поскорее подружился с ребятами и выучился говорить по-грузински. Что-то оборвалось у меня в душе, положение было безвыходным. И вдруг я почувствовал какой-то переход в другую бытность, я стал видеть все как-то со стороны. Вот идет женщина и ведет за руку сутулого печального ребенка — это меня. Солнце перестало ярко светить, все стало серым и блеклым, как бы неживым. Я почувствовал, что наступило время какого-то решения, это время может тут же закончиться, нужно спешить. И я твердо сказал про себя совершенно чужими словами: «Этот вертеп должен сегодня сгореть!» Тут опять засияло солнце, я оказался на своем месте — за руку с мамой, она что-то говорила мне, но я не слушал. Я распрямился, мне стало легко, я не думал больше о проклятом детском саде. Мне потом мама сказала, что я весь вечер вел себя спокойно и тихо улыбался.
Утром я не умолял, как обычно, оставить меня дома; спокойно собрался, и мама повела меня за руку куда надо. Приближаясь к двухэтажному деревянному зданию детского сада, я даже не смотрел в его сторону, а улыбался про себя. Вдруг мама неожиданно остановилась и испуганно вскрикнула: «Сгорел!»
Я поднял глаза и увидел то, что уже представлял себе и лелеял в воображении. Мокрые обгоревшие бревна, раскиданные по двору. Печь с высокой трубой, стоящая одиноким памятником пепелищу. Невысокая лестница в никуда. Отдельные люди, медленно бродившие по углям.
— Сгорел, — повторила мама, — что же теперь делать?
— Сгорел вертеп проклятый! — чужим голосом, улыбаясь, вымолвил я. Мама с ужасом посмотрела на меня и даже отпустила руку.
— Откуда ты такие слова знаешь: «вертеп»? Что это такое, где ты слышал это слово?
Мама забежала во двор и о чем-то поговорила с бродившими там людьми, видимо работниками детского сада.
— Пожар начался поздно вечером от короткого замыкания. Спавших детей успели вывести, так что никто не погиб!
А ведь кое-кого не мешало бы и поджарить: не так, чтобы досмерти, а так, чтобы для науки! — подумал я про себя.