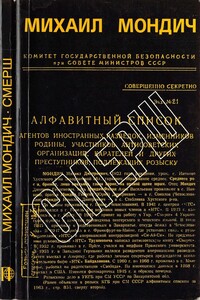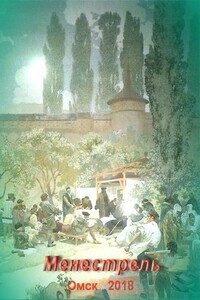Снимали то, к чему сердце лежало. Иногда хотелось снять комедию, иногда – драму. Цели „попасть в зрителя“ не было за отсутствием самого зрителя. Леша придумал фильм „Брат“ не потому, что хотел заработать (он вообще не про деньги), и не потому что хотел стать любимцем публики, ему просто хотелось сделать именно такой фильм, и мы его сделали. То есть по замыслу это настоящее авторское кино.
Я вообще начало нового русского кино связываю с тремя фильмами – „Особенности национальной охоты“ Рогожкина, „Вор“ Чухрая и „Брат“ Балабанова. Эти фильмы порвали с советской пуповиной. До них кино было сильно связано с недавним советским прошлым: кто-то снимал то, что ему раньше не давали снимать по цензурным соображениям, кто-то сводил счеты с советской властью, кто-то снимал „чернуху-порнуху“ только потому, что „теперь можно“. Все рефлексировали по поводу советского прошлого так или иначе. Но три фильма оказались свободны от этого влияния. Я лично от них отсчитываю историю нового кино».
Рынок кино в середине 1990-х
Советская система кинопоказа давала сбои еще во времена СССР, но распад СССР сразу ее обвалил, резко сократив размер аудитории. К тому же в городах закрывались кинотеатры, а в селах – клубы. За 1991 год в России закрылось 7910 киноустановок, из них 2680 – в городах. Советские монозальные кинотеатры с их огромными экранами стали убыточными. Первый кинотеатр нового типа появился в Москве только в 1996 году: «Кодак – Киномир» в бывшем клубном зале издательства «Известия» построили работавшие в России американцы. До создания киносетей еще далеко, хотя в 1995 году «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» объединяется с каналом «НТВ», для производства фильмов внутри большой корпорации, владелец которой Владимир Гусинский вкладывает деньги в кинопроизводство, в реконструкцию кинотеатров, в производство видеокассет. У Гусинского лидерские амбиции, большие планы, в том числе и в области кинопроизводства, но в июне 2000 года он будет арестован, а его компания продана «Газпрому».
Сельянов, конечно, пытался сделать все возможное, чтобы использовать возможности телевизионного рынка: «Еще в 1992 году оказалось, что два главных телеканала, „Останкино“ и „Россия“, готовы покупать фильмы. Канал „Россия“ покупал права на 25 лет и давал за это три тысячи долларов, в то время как „Останкино“ давало всего две тысячи, но и права забирало только на два года. „Духов день“ я принес в „Останкино“, потому что отдавать права на 25 лет казалось все-таки безумием, и продал фильм. Но через год появился канал „НТВ“ и предложил мне более интересные условия – четыре тысячи за те же два года, или два показа. Более рыночным это предложение было потому, что сумма варьировалась в зависимости от качества фильма, от возможного на него спроса. У „России“ и „Останкино“ цифра всегда оставалась неизменной. Поэтому я пошел в „Останкино“, вернул им две тысячи, расторг договор и заключил новый контракт с „НТВ“.
Вот такой тогда был рынок. То есть чтобы произвести фильм, нужно было как минимальный минимум 150 тыс. долларов, через телевидение можно было вернуть примерно четыре, ну в лучшем случае семь-восемь тысяч».
При этом телевидение, приучая зрителей к тому, что новые фильмы можно смотреть бесплатно, убивало кинопрокат. Потребление кино росло: смотрели куда больше, чем в советские времена, но на производство денег не поступало.
Страсть соотечественников к кинопросмотру на диване, между тем приносила хорошие деньги, но не производителям, а посредникам. Рынок видеокассет развивался лавинообразно, пиратские VHS-кассеты продавались по всей стране. Проблема в том, что за фильмы не платили.
«Но, тем не менее, – вспоминает Сельянов, – рынок этот существовал, и, по моим расчетам, на нем можно было бы, сняв фильм с бюджетом в 100–200 тыс. долларов, вернуть почти все деньги. Это маленький бюджет, но лучше, чем ничего. За такие деньги снять кино было трудно, но можно. Конечно, не каждый проект мог стать удачным, не каждый возвращал свои деньги, нужно было угадать с аудиторией. Но при большой удаче можно было отбить всю сумму и даже заработать. Но это, повторяю, при большой удаче, которая, увы, не всегда случается. Гарантии не было».