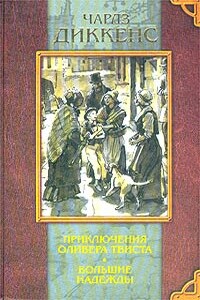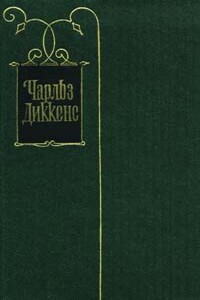Так продолжалось дня три или четыре. Наконец в одно прекрасное утро мистер Пексниф возвратился домой, едва переводя дух от спешки, что было даже странно видеть в нем, обыкновенно медлительном и спокойном, и, пожелав безотлагательно переговорить с дочерьми, заперся с ними на целых два часа для приватной беседы. Изо всего, что произошло за это время, известны только следующие слова, сказанные мистером Пекснифом:
— Нам не стоит задумываться над тем, как это вышло, что он так изменился (если окажется, что он действительно изменился). Дорогие мои, у меня есть на этот счет свои догадки, но делиться ими я не стану. Довольно, если я скажу, что нам надо смириться духом, все простить и не помнить зла. Ему нужна наша дружба — пожалуйста. Надеюсь, мы знаем свой долг.
Около полудня в тот же день почтенный старик вышел из наемного экипажа у почтовой конторы и, назвав свою фамилию, справился, нет ли на его имя письма, оставленного до востребования. Письмо лежало уже несколько дней. Оно было надписано рукой мистера Пекснифа и запечатано печатью мистера Пекснифа.
Письмо было очень кратко и не содержало, в сущности, ничего, кроме адреса — с почтительнейшим поклоном и (невзирая на все, что произошло) совершеннейшим почтением мистера Пекснифа. Старик оторвал от него адрес, развеяв все остальное по ветру, и дал его кучеру, с наказом подъехать как можно ближе к месту. В соответствии с этим наказом он был подвезен к Монументу, где опять вышел, отпустил экипаж и пешком направился к пансиону М. Тоджерс.
Хотя все в этом Старике — и лицо, и фигура, и походка, и даже непреклонный вид, с каким он опирался на трость, — выражало неумолимую решимость и твердую волю (хорошо или дурно направленную, сейчас не имеет значения), каких в былое время не сломила бы даже пытка и кои в смертной слабости являли жизни силу, однако в нем заметны были следы колебаний, заставивших его пройти мимо дома, который он искал, и некоторое время прохаживаться взад и вперед в полосе солнечного света, пересекавшей соседнее маленькое кладбище. Быть может, в присутствии этих недвижных груд праха рядом с кипучей городской жизнью было нечто такое, что усилило его колебания, но он ходил по кладбищу взад и вперед, будя своими шагами эхо, до тех пор, пока часы на колокольне не начали во второй раз отбивать четверть и не вывели его из задумчивости. Как только в воздухе замер звон колоколов, он стряхнул с себя оцепенение и, подойдя к дому большими шагами, постучался в дверь.
Мистер Пексниф сидел в комнатке хозяйки, и гость застал его — совершенно случайно, мистер Пексниф даже извинился — за чтением серьезнейшего богословского трактата. Рядом, на маленьком столике, стояли вино и печенье — опять-таки случайно, и мистер Пексниф опять-таки извинился. По его словам, он уже перестал ожидать гостя, и когда тот постучался в дверь, собирался разделить это скромное угощение со своими дочерьми.
— Дочери ваши здоровы? — спросил старик, кладя шляпу и трость.
Отвечая на этот вопрос, мистер Пексниф напрасно пытался скрыть свое родительское волнение. Да, они здоровы. Они добрые девушки, сказал он, очень добрые. Он не берет на себя смелость советовать мистеру Чезлвиту сесть в кресло или держаться подальше от сквозняка. Он опасается, что, отважившись на это навлечет на себя самые несправедливые подозрения. Поэтому он ограничится указанием, что в комнате есть кресло и что от двери дует. С этим последним неудобством, если ему будет позволено прибавить еще одно слово, довольно часто приходится встречаться в старых домах.
Старик сел в кресло и после нескольких минут молчания сказал:
— Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы так скоро приехали в Лондон по моей просьбе, не спрашивая о причинах, — приехали, разумеется, за мой счет.
— За ваш счет, уважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф тоном величайшего изумления.
— Не в моих правилах, — продолжал Мартин, нетерпеливо отмахнувшись рукой, — не в моих правилах вводить моих… ну, родственников, что ли, в какие бы то ни было расходы из-за личных капризов.
— Капризов, уважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф.