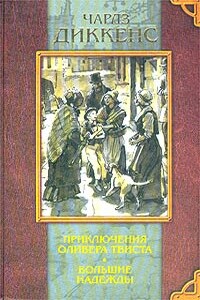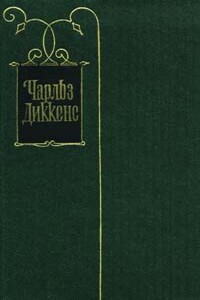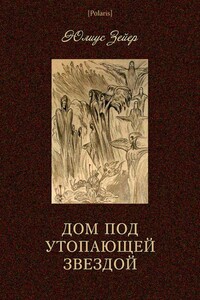Мисс Пексниф распечатала его, пробежала, испустила пронзительный вопль и упала в обморок, уронив письмо на пол.
Его подняли и, столпившись вокруг и заглядывая друг другу через плечо, прочли следующее сообщение со множеством тире и росчерков:
«На широте Грейвзепда, Клипер «Купидон», в среду ночью.
Навеки оскорбленная мною мисс Пексниф!
Прежде чем это письмо дойдет до вас, нижеподписавшийся будет если не трупом — то на пути к Вандиме — новой земле[133]. Не посылайте за мной в погоню. Все равно живой я не дамся!
Тяжелый груз — триста регистрационных тонн — простите, в своем отчаянии я путаюсь и пишу о корабле, — обременявший мою душу, был поистине ужасен. Сколько раз, когда вы пытались утешить меня, напечатлев поцелуй на моем челе, мысль о самоубийстве проносилась у меня в мозгу. Сколько раз — как это ни покажется невероятным — я отказывался от этой мысли.
Я люблю другую. Она принадлежит другому. Все на свете принадлежит кому-нибудь другому. Ничего на свете я не могу назвать своим — даже место я потерял — из-за своего необдуманного поступка убежав от вас.
Если вы когда-нибудь любили меня, выслушайте мою последнюю просьбу — последнюю просьбу несчастного, отверженного изгнанника. Отошлите приложенное — это ключ от моего стола — в контору с посыльным. Адресуйте, пожалуйста, Бобсу и Чолбери — то есть Чобсу и Болбери — рассудок мой положительно мешается. Я забыл перочинный ножичек — с ручкой из оленьего рога — в вашей рабочей шкатулке. Он вознаградит посыльного. Пусть этот ножик принесет ему больше счастья, чем принес мне!
О мисс Пексниф, почему вы не оставили меня в покое? Разве это не было жестоко, жестоко с вашей стороны? О боже мой, ведь вы были свидетельницей моих чувств — вы видели, как они струились потоком из глаз моих, — разве вы сами не упрекали меня за то, что я плакал больше обыкновенного в тот ужасный вечер, когда мы встретились в последний раз — в доме, где я когда-то знал спокойствие — хотя и отчаивался, — находя его в обществе миссис Тоджерс?
Но так было написано в талмуде — что вы будете вовлечены в орбиту моей непостижимой и мрачной судьбы, которая должна завершиться и которая тяготеет — над моей — головой. Не стану упрекать вас, ибо я нанес вам удар. Пускай мебель несколько смягчит его.
Прощайте! Станьте горделивой невестой герцогской короны и забудьте меня! Дай вам бог как можно дольше не знать той душевной муки, с которой я подписываюсь теперь — среди бурных завываний — матросов.
Неизменно, навеки не ваш,
Огастес».
Они так мало думали о мисс Пексниф, с жадностью читая это письмо, словно она была последним человеком на свете, к которому оно относилось. Но мисс Пексниф и в самом деле упала в обморок. Горько было и унижение, горько было и то, что она сама пригласила свидетелей — и каких свидетелей! — любоваться им; горько было знать, что решительная особа с ее красноносыми дочерьми торжествует победу в этот час, назначенный для ее падения, — нет, всего этого нельзя было вынести! Мисс Пексниф упала в обморок по-настоящему.
Что это за величественные звуки касаются нашего слуха? Что это за темнеющая комната?
А эта кроткая фигура за органом, кто это? Ах, Том, дорогой Том, старый друг!
Твоя голова поседела раньше времени, Том, хотя уже много лет прошло с тех пор, как мы с тобой познакомились. Но в этих звуках, которые помогают тебе коротать долгие сумерки, изливается музыка сердца и рассказывается история твоей жизни, Том.
Твоя жизнь течет мирно, спокойно и счастливо, Том. В тихой мелодии, которая, постоянно повторяясь, украдкой ласкает нам слух, быть может звучит воспоминание о твоей старой любви, но это приятное, смягченное временем, чуть слышное воспоминание, такое, какое иногда бывает у нас об умерших; оно не вызывает, слава богу, ни боли, ни тоски!
Дотронься до клавиш органа легко, Том, так легко, как только ты можешь; но никогда твоя рука не упадет так легко на клавиши инструмента, как на голову твоего старого тирана, склоненную низко, очень низко, и никогда инструмент не ответит тебе так фальшиво, как отвечает он.
Ибо вечно пьяный и грязный, сочинитель просительных писем, побирушка по фамилии Пексниф (со сварливой дочерью на шее) надоедает тебе, Том; и, являясь к тебе клянчить денег, всегда напоминает, что устроил твою судьбу лучше, чем собственную; а истратив деньги, занимает своих собутыльников в пивной рассказами о твоей неблагодарности и о своей былой щедрости к тебе; а потом показывает дырявые локти, ставит на скамейку башмаки без подметок и просит своих слушателей полюбоваться, каково это, когда ты хорошо одет и живешь в хорошем доме. Все это тебе известно, и все это ты терпишь, Том!