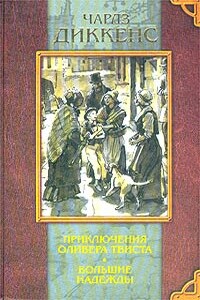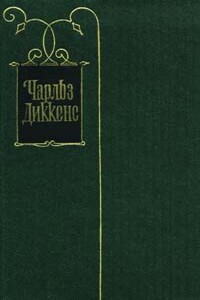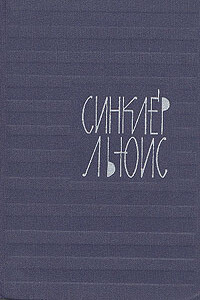Тут были англичане, ирландцы, валлийцы и шотландцы, все со своими скудными запасами пищи и узелками поношенного платья, и почти все с детьми. Тут были дети всех возрастов, от грудного ребенка до растрепанной девушки, которая казалась почти такой же увядшей, как ее мать. Все виды отечественных бедствий, порожденных нищетой, болезнью, изгнанием, горем и долгим странствием по бурному морю, были втиснуты в узкую клетку; и все же в этом погибельном ковчеге было несравненно меньше жалоб и свар и несравненно больше взаимной помощи и доброты друг к другу, чем во многих пышных залах.
Марк невесело оглядел каюту, и сейчас же его лицо просветлело. В одном углу старая бабушка пестовала больного младенца, укачивая его на руках, едва ли не более исхудалых, чем его собственные; в другом бедная женщина, держа одного ребенка на коленях, чинила платье другому и успокаивала третьего, который подползал к ней по полу, слезши с убогой подстилки; а там старики неловко возились с мелкими домашними делами и казались бы смешными, если б не их добрые намерения и благая цель. Были тут и смуглые молодцы, настоящие великаны, которые оказывали окружающим небольшие знаки внимания с нежностью, скорее свойственной добрым карликам; и даже идиот, который целыми днями сидел гримасничая в углу, подражал по мере сил тому, что видел вокруг, и щелкал пальцами, забавляя плачущего ребенка.
— А ну-ка, — сказал Марк Тэпли, кивая женщине, которая одевала своих детей неподалеку от него, и улыбаясь все шире и шире, — давайте-ка мне сюда одного малыша, я его умою как полагается.
— Вы бы лучше позаботились о завтраке, Марк, вместо того чтобы возиться с людьми, которые не имеют к вам никакого отношения, — заметил Мартин раздраженно.
— Ничего, — сказал Марк. — Она позаботится, сэр. Это отличное разделение труда, сэр. Я умою мальчишек, а она приготовит нам чай. Я никогда не умел заваривать чай, а умыть мальчишку всякий сумеет.
Женщина, худенькая и болезненная, чувствовала и понимала его доброту, — что было не удивительно, потому что ее каждую ночь укрывало пальто Марка, а сам он спал на голых досках, завернувшись в плед. Но Мартин, который редко вставал с койки и почти не замечал, что делается кругом, пришел в ярость от его безрассудных слов и выразил свое неудовольствие сердитым стоном.
— То-то оно и есть, разумеется, — сказал Марк, причесывая ребенку волосы так невозмутимо, словно родился цирюльником.
— О чем это вы говорите? — спросил Мартин.
— О том, что вы сказали, — отвечал Марк, — или хотели казать, так мрачно выражая свои чувства. Ей приходится очень трудно.
— Почему трудно?
— Быть в дороге одной с этим вот малолетним грузом, ехать к мужу в такую даль и в такое время года! Если вы не желаете, чтобы мыло попало вам в глаза, молодой человек, — заметил мистер Тэпли второму мальчишке, которого в это время умывал над тазиком, — зажмурьтесь как следует.
— Где же она встретится с мужем? — спросил Мартин, зевая.
— Как вам сказать, я очень боюсь, — заметил мистер Тэпли, понизив голос, — что она и сама этого не знает. Надеюсь, она с ним не разминется. Она послала последнее письмо с оказией, а до тех пор это, кажется, не было точно между ними условлено; и если она не увидит его на берегу с носовым платком в руках, как на картинке в песеннике, — по-моему, она умрет с горя.
— О чем же, черт возьми, эта женщина думала, когда садилась на пароход? — воскликнул Мартин.
Мистер Тэпли с минуту глядел на Мартина, лежавшего в изнеможении на койке, потом очень спокойно сказал:
— Да! В самом деле, о чем? Понять не могу! Он вот уже два года как уехал. На родине она жила в бедности, очень одиноко, и только и ждала, когда снова увидится с мужем. Очень странно, как это она сюда попала! Просто удивительно! Рехнулась немножко, должно быть! Другого объяснения, пожалуй, не подберешь.
Мартин слишком ослабел от морской болезни, чтобы как-нибудь ответить на эти слова или хотя бы прислушаться к ним внимательно. А так как та, о которой они говорили, вошла в эту минуту с горячим чаем, то разговор этот больше не возобновлялся, и мистер Тэпли, подав завтрак и оправив постель Мартина, ушел на палубу мыть посуду, состоявшую из двух жестяных кружек и такого же бритвенного тазика.