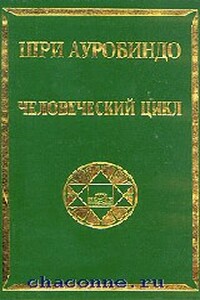Выше Супраментала – Единый, вечно незыблемый и неизменяемый; ниже – вечно изменяемый Множественный, всегда ищущий, но никогда не обретающий как нечто постоянное в бесконечном потоке вещей и явлений твердую и устойчивую точку опоры. Между ними – Супраментал, вместилище всякой троичности, всякой биполярности, того, что является Множественностью в Единстве, оставаясь при этом Единым в Многообразии, ибо изначально был Единым и потенциально Множественным. Этот промежуточный уровень сознания является поэтому началом и концом, альфой и омегой всего творения, источником различий, орудием и изначальным средством реализации единства и гармонии в мире. Супраментал обладает знанием Единого, но он способен в то же время извлекать сокровенное в Нем многообразие, проявляя Множественное, он не теряет себя в его многоликой пестроте. Не следует ли в связи с этим сказать, что само существование Суперразума указывает на Нечто такое, что превосходит наше высшее восприятие неизреченного Единства, Нечто неизреченное и недоступное нашему рассудку, и не потому даже, что представляет собой неделимое единое целое, а потому, что не поддается вообще никаким умственным определениям и формулировкам, – на Нечто такое, что само по себе выше как множественности, так и единства? Это и будет Абсолютом или чистой Реальностью, оправдывающей для нас как знание Бога, так и знание мира.
Но эти понятия настолько масштабны и всеобъемлющи, что их трудно усвоить и пользоваться ими. Уточним их. Мы говорим о Едином как о Сатчитананде, который, по определению, представляет собой триединый принцип. Мы говорим: «Бытие, Сознание, Блаженство» и затем добавляем, что они едины. Это чисто ментальное восприятие и толкование. Но для единого сознания такой подход недопустим. Бытие есть Сознание, и никаких различий между ними провести невозможно. То же самое относится к Бытию и Блаженству. А поскольку эти разграничения невозможны, то не может быть и этого мира. Если Сатчитананда – это единственная реальность, то нашего мира нет и он никогда не существовал, и его даже невозможно себе представить, ибо единое и неделимое сознание не способно к проявлению в виде двойственности и разделения. Но тогда мы имеем то, что называется «reductio ad absurdum», с чем нельзя согласиться, если не принять за отправную точку абсолютно немыслимый парадокс и непримиримое противоречие.
С другой стороны, для Разума реальностью в природе вещей является как раз раздробленность, разъединенность. Для него естественны понятия синтетического целого и конечного, которое он образует своего рода самопростиранием за всякую заданную границу. Разум способен оперировать понятием множества конечных элементов и лежащего в его основе подобия, но полное и окончательное единство, равно как и абсолютная бесконечность остаются для разума абстрактными понятиями, их объекты недоступны для его восприятия, далеки от того, чтобы быть реальностью, и еще более далеки от того, чтобы быть единственной реальностью. Разум являет собой полную противоположность унитарному сознанию, и, таким образом, мы имеем следующий конфликт: на одном полюсе – то, что по самой своей сущности является неделимым единством, на другом – то, что по самой своей сущности является множественностью, не способной прийти к единству, не уничтожив саму себя, что, казалось бы, должно служить доказательством, будто бы оно никогда и не существовало. И тем не менее, оно обладало бытием, ибо оно-то и обрело единство, уничтожив себя. И снова у нас – reductio ad absurdum, снова – острейший парадокс, словно пытающийся заставить мысль согласиться с собой, ошеломив ее, снова – антитеза, которая как была, так и остается непримиримой.
Трудности, связанные с преодолением противоречий на уровне разума, исчезают, если мы поймем, что он является подготовительной ступенью нашего сознания. Разум есть орудие анализа и синтеза, но он не может быть инструментом изначального знания. Его функция сводится к приблизительному выделению чего бы то ни было из неизвестной Вещи в себе. Это произвольное ограничение получает название «целого», которое подвергается, в свою очередь, анализу и разложению на составные части, рассматриваемые как отдельные объекты. Разум способен к ясному восприятию и познанию собственными средствами лишь обособленных фрагментов, составляющих частей. Что касается целого, то единственное представление, которое о нем способен получить Разум, сводится к тому, что оно есть совокупность отдельных частей и элементов. Если разум не в состоянии увидеть целое как часть некоего иного образования или же как совокупность частей и свойств, то такое целое воспринимается им как нечто неясное, неопределенное. И только подвергнув рассматриваемый объект анализу и установив его соотношения с более крупным и масштабным целым, Разум может сказать: «Теперь я познал это». В действительности Разум не имеет знания. Он знает лишь свой собственный анализ объекта и свое представление о нем, составленное с помощью синтеза отдельных частей и свойств этого объекта, им отмеченных. Этим исчерпывается главная сила Разума и этим ограничивается его функция. И если бы у нас было знание более значительное, более глубокое, реальное знание – именно знание, а не те, пусть и сильные, но смутные ощущения, которые порой возникают где-то в глубинах нашего Разума, – то последнему пришлось бы уступить место иному сознанию, которое заменит его, превзойдя его, или изменит, придаст чистоту его деятельности, поднявшись в далекую от него запредельность. Вершина ментального знания есть лишь трамплин для прыжка к более высокому уровню сознания. Высшая миссия Разума сводится к тому, чтобы воспитать наше темное сознание, вышедшее из мрачного заточения Материи, привнести свет в сплетение его слепых инстинктов, случайных интуитивных прозрений и невнятных ощущений, чтобы оно озарилось еще более высоким светом в своем восхождении к истине. В этом отношении Разум представляет собой лишь переходный этап, но не кульминацию сознания.